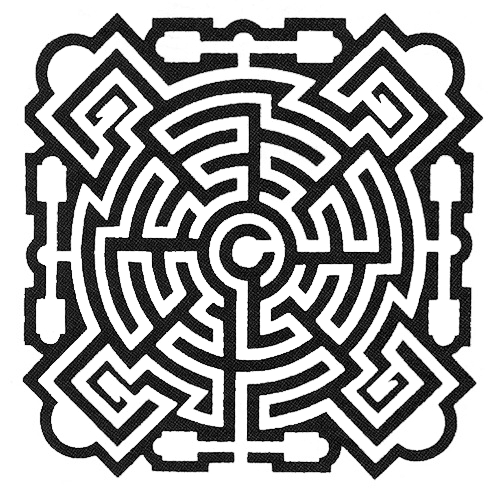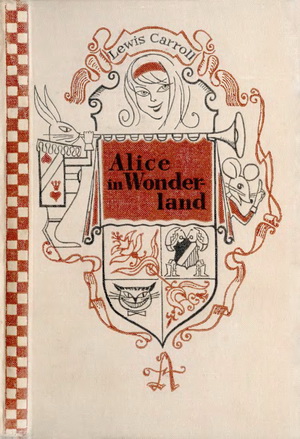
Рубрика «Льюис Кэрролл: биография и критика»
I
Те, кто знал преподобного Ч. Л. Доджсона в Оксфорде — преподаватели и особенно студенты, — не имели и повода подозревать, что тихий, застенчивый, страдающий от сильного заикания человек, которому едва дается исполнение обязанностей «тьютора» — руководителя семинара, живет причудливым тайным бытием. Иногда, правда, броня замкнутости давала трещину, и запредельный мир напоминал о себе эксцентрической загадкой: «Ч-ч-что лу-лучше: часы, которые показывают верное время однажды в год или два ра-раза в сутки?»
Но кто станет ломать себе над этим голову?
Надо ли замечать подобные парадоксы в пучине куда больших бурь?
Вопрос ли это для умов, занятых в 40—50-х годах прошлого столетия знаменитыми оксфордскими спорами, где дебатировались краеугольные проблемы веры, мировосприятия, идеологии?
Студенты, по крайней мере те, которых Доджсон в 1864 году снабдил «Руководством для изучающих математику», ничего выдающегося в своем наставнике не находили. Скучен был, по их мнению, словно стоячая лужа. А через год Чарльз Лутвидж Доджсон, обладатель научных трудов и к тому же священнического звания, оказался Льюисом Кэрроллом, сочинителем затейливой детской книжки «Приключения Алисы в Стране Чудес» {Alice in Wonderland, 1865).
Трудно различим был Льюис Кэрролл, забавник и парадоксалист, в облике Ч. Л. Доджсона, «постного оксфордского декана». Сдержанный суховатый математик или, напротив, эксцентрический рассказчик, — два облика, соединенные «смертной оболочкой», — с какой бы стороны ни взглянуть, — не давали окружающим легко заметного повода догадываться о постоянном саморазборе, разладе и самоугрызении, пульсирующем в одном мозгу, в одном сознании. Теперь мы читаем в дневнике: «Великие милости, большие поражения, потерянное время, талант без приложения — таков был уходящий год». И этот горестный итог подводит в декабре 1855 года именно Льюис Кэрролл, между тем как здесь же, только несколькими строками выше, Ч. Л. Доджсон признавал: «Этот год был одним из самых значительных в моей жизни: я начинал его бедным студентом без определенных планов и надежд; я заканчиваю его кандидатом и преподавателем колледжа с доходом в триста фунтов, обеспеченный по воле божьей математическим курсом по крайней мере на ближайшие несколько лет».
Надеялись на дневники. Полагали, что в них, остававшихся до последнего времени закрытыми, механика внутреннего мира писателя обнаружит себя. Сенсаций, однако, не произошло. Любители таковых могли быть, вероятно, разочарованы, поскольку самым поразительным в дневниках Льюиса Кэрролла оказался тот факт, что личные записи повторяли — только в более дробных долях — характерную монотонность образа жизни, известную уже по общей биографической канве.
Прежде знали: родился в 1832 году в семье священника Чарльза Доджсона в графстве Чешир. Учился в Ричмонде и Регби. Аттестат зрелости получил в оксфордском колледже Крайст-черч, где был студентом, а по окончании курса преподавателем. Отличался математическими способностями, хотя и «не блистал». Занимался математической логикой — наукой, в ту пору только формировавшейся и нашедшей применение в наше время в разработке теорий кибернетики, устройстве вычислительных машин, «умных» самообучающихся механизмов, развитии математической лингвистики.
Увлечением Ч. Л. Доджсона были различного рода шифры, которые он постоянно изобретал. Мечтал он также написать стихи, где обыгрывался бы смысл слова «ничто», и уделял много сил фотографии, только входившей в моду.
Начал пробовать перо довольно рано. Печатал шутки в стихах и в прозе на страницах юмористического выпуска «Таймс» и некоторых других изданий (1853—1856), но главным образом занимался изготовлением домашних рукописных журналов, наиболее жизнеспособным из которых оказался «Зонт священника» {Rectory Umbrella). В 1856 году послал по просьбе редактора список возможных псевдонимов, поскольку предпочитал не подписываться собственным именем и ставил одни литеры. Редактору хотелось что-нибудь благозвучное. Выбрано было из предложенных вариантов обозначение «Льюис Кэрролл», сложившееся из начальных слогов имен Лутвидж-Людовик, Луи-Льюис и трансформации Чарльз-Карлус-Кэрролл. Под стихотворением «Одиночество» этот псевдоним появляется в печати.
К 1857 году Льюис Кэрролл успел опубликовать по журналам, а тем более насочинить столько, что впоследствии — уже после «Алисы» — стихов, головоломок, загадок с некоторыми добавлениями оказалось достаточно для издания двух книг «Фантасмагория» (Phantasmagoria, 1869) и «Рифма? — Разум?» {Rhyme? and Reason?, 1883).
В августе 1865 года накануне выхода в свет «Алисы в Стране Чудес» Ч. Л. Доджсон с карандашом в руках прикидывал, во сколько обойдется ему все издание, и заключил: «на прибыль едва ли можно надеяться».
При всей старательности расчетов они оказались весьма приблизительными: ровно через год после первой публикации «Приключений Алисы» Льюис Кэрролл, сохраняя пунктуальность, записал, что им были получены авторские экземпляры пятой тысячи… Всего, — еще более пунктуально добавляют биографы, — при жизни писателя его книга разошлась в ста восьмидесяти тысячах экземпляров.
Начальные оттиски с дарственными надписями кроме ближайших друзей, больших и маленьких, получил ряд дорогих автору лиц, среди которых были физик Майкл Фарадей и выдающийся биолог-дарвинист Томас Гексли, потом в тот же ряд попали известные поэты, писатели, художники, новые знакомые, большие и маленькие, и даже члены королевской фамилии. Список этот увеличивался, по мере того как росла слава Льюиса Кэрролла. Получили право издания «Приключений Алисы» американские печатники, и книга переправилась за океан; шли переговоры о французском переводе, о немецком — оба скоро появились (1869)[1]. На стихотворные тексты из «Приключений Алисы» была написана музыка, причем композитор — вполне в духе Льюиса Кэрролла — не оставил без мелодии и «голос омара».
Признание Льюиса Кэрролла окончательно упрочилось. Популярность его перешла и границы серьезного уважения, на ней появился пошловатый оттенок банальности: эпизоды из «Алисы» стали служить сюжетами для картинок на крышках конфетных коробок. Льюис Кэрролл к ужасу своему стал моден.
В 1867 году вместе со своим другом доктором Лиддоном он совершил европейское путешествие — через Францию и Германию — в Россию, где они побывали в Петербурге, на Нижегородской ярмарке, в Москве и в Троицко-Сергиевской лавре.
Несколько забавных книг написал и выпустил затем Льюис Кэрролл (не считая математических сочинений). Каждая из этих книг, особенно «В Зазеркалье; что там увидела Алиса» (Through the Looking Glass; What Alice Saw There, 1871), фактически вторая часть «Приключений в Стране Чудес», подкрепляла репутацию Льюиса Кэрролла, как автора «Приключений», хотя и не превышала ее.
Поездка в Россию была единственным значительным для Льюиса Кэрролла перемещением. Он по-прежнему жил в Оксфорде, в 1881 году оставил должность преподавателя математики, однако продолжал деятельность проповедника. В 1897 году он отправился под новый год к сестре в графство Серрей разве только затем, чтобы скоропостижно — в январе 1898 года — умереть там.
Биография, выпущенная Ст. Доджсоном Коллингвудом, племянником писателя [2], вскоре после смерти Льюиса Кэрролла, имела заметный успех. Однако на исходе прошлого столетия и в начале нашего века интерес к его творчеству ослабел. На какой-то период о причудливом писателе вовсе забыли; именно в это время разрознился, к сожалению, его архив, часть бумаг исчезла, а некоторые оказались в случайных руках.
В 1932 году, в столетнюю свою годовщину, Льюис Кэрролл пережил посмертное «возрождение». Юбилей этот стал национальным событием. Был создан представительный комитет, заново выпущены книги, опубликованы материалы из-под спуда, организована выставка, отмечены мемориальные места. И снова сюжеты из книг писателя появились на крышках конфетных коробок. Рассказывали о том, что у писателя в его оксфордском кабинете была игрушечная железная дорога, заводная летучая мышь, калейдоскоп, еще много всяких удивительных вещей, которыми он занимал своих маленьких знакомых и сверх того — рассказы о приключениях в Стране Чудес. Еще жива была Алиса Лидделл, Алиса-«вдохновительница». Она постаралась вспомнить, как и когда впервые довелось ей услышать истории, которые теперь начинаются хрестоматийными стихами:
Покойный полдень
Золотой и мы втроем —
Одни — плывем…
Вспышка интереса к Льюису Кэрроллу носила не только сенсационный характер. К этой поре вполне успели разглядеть, что причудливые рассказы для детей о приключениях Алисы со временем оказали воздействие на «взрослую» литературу. Забавные выкрутасы, вроде возможности представить себе «кота без улыбки и улыбку без кота» или сделать приятелями Мартовского Зайца и Шляпника, имели своими последствиями некоторые вполне серьезные приемы повествования и психологического анализа. К Льюису Кэрроллу, к его биографии и творчеству, к его детским книгам и математическим сочинениям, фотографиям, письмам и прочим личным бумагам подступили исследователи во всеоружии новейших научных средств.
Если бы дети, которым суждено было раньше других узнать о похождениях Алисы, отдавали себе более сознательный отчет в исключительности историй, им преподносимых, они, вероятно, постарались бы рассмотреть устройство ума и глаза рассказчика, их забавляющего. Так разбирают они игрушки, те, что особенно для них привлекательны и любопытны. И зрелый читатель едва ли избежит того же искушения. Пытаясь уловить существо творческой натуры Льюиса Кэрролла, он может счесть для себя девизом слова поэта-романтика С. Т. Кольриджа (Samuel Taylor Coleridge, 1772—1834), книгу которого «Спутник размышлений» (Aids to Reflection, 1825) Ч. Л. Доджсон читал всю жизнь. «Ничто, — заметил однажды поэт, — не занимает нас с таким постоянством, как явление, содержащее в себе причину, которая делает это явление именно таковым, каково оно есть, но не иным». Льюис Кэрролл по-своему называл это «непременностью судьбы» (Inevitability of Fate).
II
Льюис Кэрролл со своей внешней неприметностью, отсутствием какой-либо видимой оппозиционности принятому, не принадлежал к поколению «бунтующих детей», у него были подозрительно мирные, в глазах фрейдистов, отношения с отцом. В противоположность большинству знаменитостей он старательно учился. Со служебной четкостью преподавал. И если были у него нелады со студентами, то Ч. Л. Доджсон не позволил подобному конфликту оформиться. Его как будто не задевали оксфордские споры.
Подчеркнутое почтение к официальности. Королевская семья — их величества — восторг.
Тем более любопытно, что под этой «конвенциальной», как выражаются по такому поводу в Англии (от слова conventional [3]), благонамеренной наружностью в существе все оказывается разрушено, связи порваны, восприятие перестроено, человек чужд «конвенции» — установленной нормативности. Сила ума, как видно, сама собой привела его в столкновение с общепринятым, хотя это столкновение осталось в скрытых, шифрованных формах. Мы не заметим его, пожалуй, если прочтем о «высочайшем» визите в Оксфорд и встрече с принцем крови, чести говорить с которым удостоился Ч. Л. Доджсон.
Неужели, однако, подвижной ум Льюиса Кэрролла был в этот момент парализован подобострастием? Или, по крайней мере, когда померк, рассеялся «отсвет величия», как выражаются подчас восторженные англичане, скользнувший невзначай по персоне Ч. Л. Доджсона, неужели и тогда его мозг не сделал своего дела и не заставил усмехнуться?
Посмотрим на гротескные фигуры королевы, короля, придворных и привратников из Страны Чудес. Слишком сильно дает себя знать в этих карикатурах вполне взрослая желчь, чтобы только детская забава заставила авторскую фантазию создать их. Взгляните, с какой отчаянностью отмахивается от мишурного кошмара маленькая Алиса, и вслушайтесь в ее раздраженный возглас:
— Да ведь вы всего-навсего колода карт!
III
Всю жизнь Льюис Кэрролл донимал всех на свете вопросом «Где начинается день?» Он приставал к друзьям и знакомым, он писал в редакции. Допуская логическую уловку, он доказывал, что если двигаться вокруг земного шара вместе с солнцем, то нельзя будет установить, когда, скажем, «вторник» начинает называться «среда».
«Проще всего, конечно, — предупреждал писатель, — решить, что это случается где-нибудь над океаном, занимающим большую часть земной поверхности, а что там происходит на воде, никто не знает».
Короче говоря, Льюис Кэрролл предлагал ограничиться в обозначении всей недели названием одного дня и эту шутку, которую он часто повторял в разговорах, а также записал и напечатал, мы находим в «Приключениях Алисы». Она отражена в замечании королевы о «целой неделе четвергов» и кроме того в рассуждении о том, что в Стране Чудес самое главное «стремиться как можно быстрее вперед, оставаясь все время на одном месте». Так собственно можно по слогам разобрать всю книжку, отмечая бытовые детали, в реальности окружавшие писателя и его друзей, или очертания отдельных замыслов, наметившихся прежде, чем соединились они в повествовании.
Почти все персонажи книги имели жизненные подобия, свои прототипы. Утенок (Duck), например, это Дакворт, друг Льюиса Кэрролла по Оксфорду. А допотопная птица Дронт-Додо это он сам, затруднявшийся обычно при знакомстве в произнесении своего настоящего имени: «До-До-Доджсон»… Даже у кошки Дины был прототип, звавшийся тем же именем.
Бывает, что в игрушках, сохранившихся с детства, или домашних животных, едва ли не располагающих полноправным семейным членством, вдруг начинает подозреваться некая сказочная осмысленность: они повторяют людей или даже более того — каким-то особым независимым и незаметным образом авторитетно наблюдают за ними. К таким фантомальным спутникам относилась, вероятно, и Дина. Не случайно она с постоянством упоминается в книжках Льюиса Кэрролла, хотя исследователи не находят согласия в ответе на вопрос, действует ли «В Зазеркалье» та же замечательная Дина, или какая-то иная кошечка?
Нет пока определенного результата в поисках следов тех белых кроликов, что выросли и слились в блестящей фигуре Белого Кролика, камергера. Говорят, что в Ландудно, уэльском городке, где на летних каникулах жил преподобный Лидделл с семьей и где гостил Льюис Кэрролл, водились кролики, называют и другие места. А Шляпник, скажем, был наверняка. Когда появилась книжка, в эксцентрическом собеседнике Мартовского Зайца оксфордцы сразу узнали некоего Теофилиуса Картера, торговца, и с тех пор иначе как Безумный Шляпник его не называли.
Хотя и здесь спорят.
В образе Шляпника Льюис Кэрролл действительно обрисовал определенное лицо, знакомое ему по Оксфорду. Когда же он договорился с художником Джоном Теннилом об иллюстрациях и повез его в Оксфорд специально взглянуть на оригинал, Теннил сделал наброски, а затем рисунки. Большинство, тем не менее, за пределами Оксфорда склонно было видеть в обличье Безумного Шляпника — Гладстона, главу правительственного кабинета. Дело в том, что Джон Теннил работал присяжным карикатуристом сатирического журнала «Панч» и, набивши руку на политических шаржах, он, изображая смешного человечка, который с глубокомысленным видом говорит пустяковину, возможно, невольно придал ему подобие премьер-министра.
Так и сегодня одни думают, что Шляпник из Страны Чудес — это Картер, торговец из Оксфорда, а другие — что это премьер Гладстон. Много ли, однако, противоречия в том, что оксфордский обыватель и глава правительства соединены сходством, что они получились как бы на одно лицо? Можно допустить, пользуясь логикой Льюиса Кэрролла, простую мысль: если Безумный Шляпник умел хранить глубокомысленное молчание, а Гладстон «заговаривал целые парламенты, университеты, корпорации, депутации», [4] то это еще не причина, чтобы Картер и Гладстон не могли быть похожи.
Вообще по разноречивости вызванных толкований «Приключения Алисы» могли бы в какой-то мере поспорить с «Трагической историей принца Гамлета». В книжке Льюиса Кэрролла видели и невротический кошмар, и аллегорическую полемику по религиозным проблемам, и политические распри, комически представленные, и вовсе ничего, кроме детской забавы.
Что же в «Приключениях Алисы» содержится на самом деле?
Да, пожалуй, как и в «Гамлете», — все. Все в том смысле, что сознание рассказчика, автора, совершенно срослось со своим временем и способно уловить суть этого времени, как самое себя прочувствовать во всем — и в мыслях, и в модах, и в мелочах, и в масштабах грандиозности. «Все кругом меня изобличает», — говорит Гамлет и со своей стороны сам во всем обличает современность — в порочности нравов, преступности властей, плачевных раздорах в театре. Он может взять в руки флейту, череп, любую частность или, напротив, мысленно обратиться к чему-то общему: «Краса вселенной — человек», — и показать во всем «квинтэссенцию праха», вездесущую, последовательную порчу. И в конце концов не столь уже важно, о чем исторически конкретном успевает упомянуть в своих речах Гамлет и что остается не высказанным, не перечисленным, гораздо важнее, что во всем, о чем бы шекспировский герой ни говорил, последовательно проявляется определенное нравственно-психологическое состояние — симптом целой эпохи.
Нечто подобное происходит по-своему и с Льюисом Кэрроллом. Его рассказы зародились в детской или во всяком случае в узком, частном кругу. Поначалу они не претендовали ни на что общеинтересное. Их слышали немногие, их понимали немногие, они предназначались для немногих.
«Для вас троих», — обращал к близким, к детям, к милым призракам своего детства Анатоль Франс «Книгу моего друга».
И в этом не надо видеть высокомерную замкнутость, как не можем мы принять романтический пафос Аркадия Гайдара за одну только детскую восторженность и не чувствовать выношенных страстей в накипающем у маленьких Чука и Гека желании «открыть против кого-нибудь бой».
Это не замкнутость и не наивность, но расчет на точную передачу определенного типа сознания, соединившего в себе волею судеб нити многих пониманий и в силу этого достойного быть старательно изображенным.
Льюис Кэрролл, как и А. Франс, имеет перед собой тех же смышленых детей, которые росли в близости ко взрослым, и, сохраняя непосредственность восприятия, получали для своего подвижного ума пищу недетски острого содержания. Усваивая ее, они, однако, не отравлялись, не теряли нетронутости, и оттого в их устах стершиеся понятия обретали свежий смысл.
О, если б навсегда могла сохраниться в сознании та же нетронутость и та же смышленость! — твердит про себя Льюис Кэрролл, перекладывая эту несбыточность на стихи о ребенке «с безоблачным челом и пытливым взором». И как затуманиваются черты лица, принимая следы жизненных невзгод, так и рассказ о Стране Чудес, покидая пределы детской, обращается в грустный гротеск.
В июне 1855 года Льюис Кэрролл записывает: «Умер наш старый декан» и менее чем через неделю отмечает, что на его место назначен вестминстерский священник Генри Джордж Лидделл и что известие было принято в Оксфорде без энтузиазма. Предчувствия не обманули — новый декан оказался сухим педантом и догматиком. К тому же он был полностью под каблуком у своей супруги. Некоторое время спустя Льюис Кэрролл познакомился с семейством Лидделлов. Со старшими сближения не произошло, а с маленьким Гарри Лидделлом они стали друзьями. Но особенная дружба завязалась у Льюиса Кэрролла с дочерьми Лидделлов, с тремя сестрами: Лориной шести лет, Алисой — четырех и Эдит двух лет. Им — Приме, Секунде, Терции — и довелось услышать о приключениях в Стране Чудес.
«Большая часть историй, — вспоминала впоследствии Алиса Лидделл, — была рассказана нам мистером Доджсоном во время лодочных прогулок по реке в окрестностях Оксфорда».
«Все повествование фактически сложилось и было рассказано через мое плечо ради Алисы Лидделл», — писал неизменный участник этих прогулок Дакворт, сидевший обычно на веслах.
Алиса, средняя, оказалась основной героиней. Она же шутя попросила своего старшего друга записать для нее удивительные похождения, что тот всерьез исполнил.
«Приключения Алисы» существовали в изустной, так сказать, традиции около пяти лет. Основа книги вполне сформировалась, прежде чем все повествование в его первоначальном виде попало на бумагу. На первых же порах появилось домашнее, рукописное «издание» под заглавием «Приключения Алисы в Подземелье» (Alice’s Adventures Underground). Потом действие перенеслось в Страну Чудес, которая также расположена где-то под землей: Алиса попадает в нее через кроличью нору и колодец.
После издания «Алисы» Льюис Кэрролл выпустил в свет и «домашний» вариант «Приключений», удовлетворяя, как он писал, любопытство читателей, желавших, вероятно, узнать, с чего началось. Сравнивая варианты, мы видим, как повествование становится литературно более изысканным, конструктивно прочным, подвижным. Основной изобразительный прием — бытовая деталь в немыслимом повороте — побуждает воображение двигаться дальше. Игра ума выходит за пределы детского восприятия, и то, что было придумано «ради Алисы», оказывается способным занять не только безоблачное внимание ребенка.
Книга Льюиса Кэрролла обрела достаточно законченную литературную форму в семейном кругу, а затем постепенно, производя как бы продольный разрез общества, поднималась к широкому читательскому уровню. Этот путь выводит на публичное обозрение нечто интимное, личное, которое уже успело вобрать в себя суть времени.
Почему же заставил повествователь сказочного Чеширского Кота на манер доктора Крупова угрожающе заявить: «Мы все безумны. Я — безумен. Ты — безумна»?
Отчего же так? Почему вдруг «поэзия бессмыслицы»?
IV
«Бессмыслица» как прием жила в народной английской поэзии, особенно в так называемых стихах или лесенках «для детской». Это вообще, — как показал в свое время К. И. Чуковский, — древний, узаконенный веками метод мышления детей всего мира: детский фольклор Дании, Германии, Франции, а также России свидетельствует об этом. «Детскими» становились иногда со временем строки вполне взрослые, злые и даже грозные, но утратившие за давностью лет свою грозность. Так английским детям с малых лет твердят стишки:
Бедняга Джек
Ел пирог,
А король
Ему помог
и т. д.
Толковые словари разъяснят нам, что эта песенка сохранилась со времен короля Генриха VIII, который производил множество всяких противоречивых преобразований, и, ущемив однажды права горожан, вызвал над собой насмешку. Голова и не одна слетела в свое , время, возможно, если обладатель ее позволял себе распевать эту песенку. А ныне это — «для детской», как мы говорим, «юрьев день», освободив хлесткое словцо от опасной политической остроты. В «считалочках», ритмически организованных «бессмыслицах» вроде наших «эники-беники» и т. д., сохранились, полагают историки, элементы наречий британских островов еще до римского завоевания.
Народное сознание прибегало к гротеску, «бессмыслице», отражая таким образом представления о социальной несправедливости, о неправедности жизнеустройства, о неоправданности тяжелой доли труженика. По тем же мотивам в народе прислушивались к юродивым и кликушам, различая в их бессвязном бормотании смутное отражение той же неудовлетворенности.
Профессиональная литература черпает из этой фольклорной традиции с разными целями. Известна значительная смысловая роль «дураков» — шутов, безумцев в пьесах Шекспира. «Шутовство служит ему только ширмою, — говорится в одной из шекспировских комедий, — из-за которой он пускает стрелы своего остроумия».
Обращаясь к народному «абсурду», фольклорному гротеску, литература совершает еще один «бессмысленный» шаг: с сознательной формальной расчетливостью доводит глупость до нарочитого изыска.
Собственно многие истории из «Приключений Алисы» и почти все стихи и песенки в этой книжке представляют собой пародийное искажение популярных в английских детских прибауток и сказок, иными словами, того поэтического материала, который прочно сызмальства входит в сознание и почитается родителями — полезным, а детьми — занимательным. Все равно как если бы у нас вместо простого и привычного «В лесу родилась елочка» детям стали бы напевать не «елочка», а «полочка» или «иголочка» или «наволочка» и т. и. Причем производилась эта операция, как справедливо заметил один английский литературовед, «с помощью новейшей науки и всех видов новейших идей». В этом сказывался, иначе говоря, новый тип сознания, и в этой «бессмыслице» был, естественно, при всей забавности свой серьезный пафос.
Еще в середине XVIII столетия в Англии появилась сказочная книжка «Песни матушки Гусыни» (Mother Goose’s Melodies, 1765), из которых кое-что популярно и у нас благодаря переводам К. И. Чуковского и С. Я. Маршака. В конце XVIII и начале XIX столетия англичане с особенным старанием стали собирать отечественную старину. То был век романтизма — разочарованности в настоящем. Не остались без внимания и детские стихи. Литератор, историк, впоследствии крупный шекспировед Дж. О. Хэллиуэлл-Филлипс (J. О. Наlliwell-Phillips) издал первое основательное собрание «Английских детских стихов» (Nursery Rhymes of England, 1842) и при успехе начинания подготовил в течение десяти лет семнадцать выпусков таких собраний. Позднее были изданы «Детские песни» (Nursery Songs, 1865), о которых еще в 1856—1857 годах Льюис Кэрролл принимался писать статью, но это его намерение осталось невыполненным.
Таким образом, распространились и прижились «скрюченные человечки», Шалтай-Болтай, старушка, что жила в башмаке — и прочие каверзные персонажи.
Однако собственно «поэзия абсурда» началась с «Книги бессмыслиц» {Book of Nonsense, 1846), автором и иллюстратором которой был художник Эдвард Лир (Edward Lear, 1812—1888). Его предшественниками называют художника Хогарта (William Hogarth, 1697-1764) и поэта Вильяма Купера (William Cowper, 1731—1800) с его причудливой «Историей Джона Гилпина» (History of John Gilpin, 1785). Они учредили даже особое издание, которое так и называлось «Клуб Бессмыслицы» (Nonsense Club, 1846—1862). Но именно Эдвард Лир утвердил «бессмыслицу» как поэтический жанр и сделал его необычайно популярным. Лир, словно Гомер, только в своем скромном, не эпическом, а «бессмысленном» роде, отличается всеми должными свойствами праотца, родоначальника. В его восприятии и манере есть по-своему величественная непосредственность, которая — как происходит это с поэтическим мышлением вообще — по мере развития ремесла неизбежно идет на убыль. У Лира образцовая, так сказать, бессмыслица. Он благополучно женит кота на сове и столь же благополучно отправляет путников по морю в решете (в народной песенке был все-таки для той же цели приспособлен таз). В отличие от последующих «бессмысленных» поэтов, невольно логизировавших в какой-то степени свой абсурд, придавая ему парадоксальный, но — смысл, стихи Лира вообще свободны от всякой содержательной нагрузки и не терпят вовсе вопроса «Ну, что из этого следует?». Смысловая интонация его шуток, там, где она уловима, сводится к тому, чтобы сдвинуть дремлющую мысль, заставить ее заиграть, устремить через «бессмыслицу» куда-то прочь. Так бегут из опостылевшего буфета с его кухонной дребеденью две пары кондитерских щипцов:
И только одно по пути говорили:
— Прощайте! Мы вряд ли вернемся назад!
(Пер. С. Я. Маршака)
Другая линия — «Бредовые баллады» (Bab Ballads, 1869) Вильяма Ш. Джильберта (William Schwenck Gilbert, 1836 — 1911), поэта и драматурга-либреттиста. Джильберт производил по-своему путаницу, добиваясь свободной подвижности сознания. Путал и смещал все он с большей логической последовательностью, чем Лир. В «бессмыслицах» Лира мешанина нарочито лишена заметного принципа построения. Единственный принцип: как попало и что попало… У Джильберта главное — с ног на голову, наоборот.
Если у Лира и Джильберта прием «сна» был случаен, то для Льюиса Кэрролла он становится сквозным, как вообще «бессмыслица» под его пером приобретает кошмарный оттенок, обращается в своего рода «визионерство», особенно в «Алисе в Зазеркалье».
Общим местом исследований творчества Льюиса Кэрролла сделались ссылки на то, что в «безумном чаепитии» показана томительная рутина домашней жизни англичан [5], а в заключительных главах книги, где королевским судом ведется разбирательство дела об исчезнувших кексах, сатирически изображено британское сутяжничество. Здесь сатира выступает в наиболее заметных формах, но по существу на протяжении всей повести то и дело иронически выставляются напоказ разного рода «бессмыслицы» и глупости.
Глупость во всем вплоть до манеры говорить «Здравствуйте — До свидания», ибо весь ритуал быта совершается по принципу механического исполнения принятых правил. Чванство лакеев, повторяющих друг за другом одно и то же, грубость господ, назойливая щепетильность Белого Кролика: «Ах, я опаздываю! Ах, что же будет! Ах, герцогиня рассердится!», пустота светской беседы, беспорядочная толчея «скачек», устроенных Дронтом, которые олицетворяют сумбур всяких собраний и общественных дискуссий, где вместо направленного соревнования мнений каждый топчется как попало и полагает в результате, что «выиграл», — все «безумно». Все лишено понимания, почему порядок именно таков, а не иной, и стало быть не возникнет большой разницы, если детям вместо затверженных стишков Джейн Тейлор «Смейтесь, звездочки, над нами» (1809) будет предложено:
Вейся, вейся, смейся мне
Нетопырь, летя к луне!
(Пер. А. Оленича-Гнененко)
«Безумие» механически действующих мозгов: читатель Льюиса Кэрролла вспомнит саркастическую улыбку Чеширского Кота, с которой отвечает он на вопрос маленькой Алисы:
— Будьте добры, скажите, пожалуйста, как мне отсюда выбраться?
— Многое зависит от того, куда тебе нужно добраться, — сказал Кот.
— Мне в общем-то все равно куда… — начала было Алиса.
— В таком случае, — прервал ее Кот, — все равно какой дорогой идти.
— Но куда-нибудь я все-таки хотела бы добраться, — пояснила Алиса.
— Об этом не беспокойся, — ответил Кот, — иди как можно дольше и в конце концов куда-нибудь да придешь.
Как бы, однако, не деформировал Льюис Кэрролл в Стране Чудес представления здравого смысла, он старается при любой причудливой трансформации сохранить за своими персонажами психологическую точность поведения. Контраст между невероятностью ситуации и психологически выверенной конкретностью переживаний составляет в его книжке стержневой эффект.
Происходит невероятное: Алиса, сжавшаяся до ничтожных размеров, попадает в дом Кролика и, пригубив там таинственной жидкости из бутылочки, снова начинает расти. Является обеспокоенный Кролик. Идет неравная схватка между Алисой и Кроликом с его слугами. Всякий раз, когда Алиса, высунув из окна свою огромную руку, отбивает приступ, раздается звон разбитого стекла — это Кролик или Пат или оба вместе падают на парники, расположенные возле дома.
«Как много, однако, — думает между тем Алиса, — у них парников с огурцами»…
Достоверность детали, реальность мысли в нереальной обстановке усугубляет комизм.
Так мелочи быта — перчатки, приветствия, игры, церемонии, ливреи и ракушки, часы и чашки, улыбки и манеры, — схваченные сами по себе с достоверностью, поменялись местами и — возникла Страна Чудес.
V
Книга С. Т. Кольриджа «Спутник размышлений» привлекала Льюиса Кэрролла, вызывала в нем особенное доверие по разным причинам. Фигура архиепископа Лейтона, богослова XVII столетия, представленного за авторитет в этой книге, имела, возможно, для Льюиса Кэрролла силу положительного примера; не сравнивал ли он себя с Лейтоном, кембриджским деканом, противником догматизма, остроумцем, от которого, как вспоминают современники, «не приходилось слышать ни одного банального слова»? Льюису Кэрроллу близка была склонность Лейтона к одиноким размышлениям, его собственным мыслям вторило убеждение епископа в том, что углубленный разбор борений собственной души научит гораздо большему, чем школьная дидактика. Задачи самого Льюиса Кэрролла бесспорно перекликались с намерениями Лейтона «обратить внимание читателя к науке о смысле слов, об их употреблении, правильном и превратном, о бесконечных преимуществах употребления слов с ясным пониманием их существа и значения».
Почему мы так говорим? Почему вследствие этого мы так думаем? — постоянная тема размышлений писателя, и она оказалась претворена в «Приключениях Алисы».
«Привожу к нелепости» — хотя это изречение и служило Льюису Кэрроллу демонстративным девизом, существо его понималось писателем как стремление «достичь полной точности в употреблении слов, учить других тому же, критиковать предвзятое или неряшливое пользование словами». За словами стоят понятия, понятия складываются в систему умозрительных представлений — это известно, и потому ясен становится внутренний пафос писателя стремящегося к «точному слову» и вместе с этим к истинности представлений, надежности знаний.
— What do you mean by that? — строго обращается к Алисе Гусеница. — Explain yourself.
Строгость — не всегда столь же прямая, подчас принимающая шутливые формы, однако принципиально неизменная, — звучит в голосе Льюиса Кэрролла, когда наблюдает он за дисциплиной речи и мысли, когда при виде того, как распадается в искалеченных словах соединяющая идея, он требует от соотечественников говорить на своем родном языке точно к правильно.
Чувствуя слово, писатель следит за его звучанием в чужих устах. Он отмечает смысловые нарушения и старается проследить, чем они вызваны. Невинным незнанием? Нарочитым невежеством? Намерениями, с которыми преследовалась заведомо ложная цель?
Что заставляет людей подчас не понимать друг друга?
Можно ли понять Короля Страны Чудес? Исполняя обязанности верховного судьи, он постоянно теряет из вида суть дела, а между тем обвиняемому грозят смертной казнью [6]. Король прячется за словами. “Important” или “unimportant’» для него не имеет значения. Он проверяет слово лишь по звуку. Что ни фраза, то очередная уловка или во всяком случае ошибка. И его последняя наиболее решительная и вместе с тем совершенно ложная сентенция, по существу бессмысленная, оказывается «первой действительно умной мыслью, какую Король только высказал за целый день».
«Как ясно умеете вы говорить о вещах», — льстиво замечает Герцогиня Алисе. Между тем, правда, детский ясный ум девочки стремится к незатуманенному смыслу слов, понятий, фактов. Алиса старается четко выражать свои мысли так же, как стремится иметь об окружающем верные представления. Ей это дается не сразу. Обратите внимание, как повторяет она стихи и песни, безнадежно путая слова и смысл: Алиса оказывается в подчинении у механического воспроизведения однажды затверженного, она попадает во власть «бессмыслицы», и, смотрите, с каким трудом ей дается освобождение!
Вместе с тем всякий раз, когда Алиса в разговорах с обитателями Страны Чудес добирается сквозь заросли «бессмыслицы» до сути дела, странные создания — будь то Шляпник и Мартовский Заяц или Черепаха и Грифон — предлагают сменить тему разговора, оставить скучный предмет, и голос их в этот момент, как, например, у Грифона, приобретает «весьма решительный тон».
Только два собеседника по-своему сохраняют последовательность до конца. Это философ-созерцатель Гусеница, да саркастический Чеширский Кот. Его изменчивая улыбка мелькает то там, то здесь, и, наблюдая «бессмыслицу» или «безумие» в Стране Чудес, он иронически интересуется у Алисы:
— Ну, как дела?
* * *
Все, что написано Льюисом Кэрроллом после «Приключений Алисы», уже слабее первой его книжки. Крепнет, становится более определенным мастерство, однако во всем чувствуется логическая заданность намерений. Повествовательные эффекты сделаны с большим расчетом, но с меньшей выразительностью. Возникает впечатление, будто Льюис Кэрролл претворяет в образах не дух некоей идеи, а стремится расщепить ее до образов, с их помощью прямо выразить саму идею. Волшебная иллюзия пропадает.
К повести «В Зазеркалье» этот промах имеет лишь некоторое отношение. Для последующих книг писателя — в стихах «Охота Ворчуна» (Hunting of the Snark, 1876) и в прозе «Сильвия и Бруно» (Sylvie and Bruno, 1889—1893) — он оказался решающим.
Сам Льюис Кэрролл едва ли не чувствовал этого. Вот почему, вероятно, он с таким постоянством вновь и вновь обращается к «Алисе». То следит за тем, как перекладывают ее на музыку, то хлопочет о сценической постановке. А его книга «Логическая игра» (Game of Logic, 1887) просто представляет собой модель «Алисы», построенную на основе головоломок.
«Алиса» в жизни Льюиса Кэрролла оказалась невозвратной. Поэтому, может быть, фотографируя мисс Лидделл уже взрослой девушкой, он постарался поймать в ее лице выражение грусти и взгляд, устремленный мимо объектива и зрителей «куда-то»: к уходящему детству, возможно.
Что ж! Одной книги, как в своей мере «Робинзона» или «Гулливера» достаточно, чтобы репутация писателя стояла высоко и держалась определенно. О далеко пошедшем влиянии «Алисы» сейчас рассуждать не будем: это длинная, как говорила у Льюиса Кэрролла Мышь, история. Мышь добавляла — «печальная», мы же скажем «сложная», поскольку в этой истории придется употребить такие серьезные слова, вроде «сюрреализм», «психоанализ», новейшая поэзия или «драма абсурда» и т. п. А мы только что отметили, сколь строго относился Льюис Кэрролл к употреблению важных слов. Не будем нарушать его разумных правил.
Влияние «Приключений Алисы» обратилось также и в другую сторону — к собственно детской литературе. Следом за Льюисом Кэрроллом написал свои книжки о Робине и Винни-Пухе Алан Милн (Alan Milne, р. 1882). Знакомые нам с детства Мойдодыр, Крокодилище, Тараканище, «а за ними кот задом наперед» или «Гражданка, во время пути собака могла подрасти», даже легендарный дядя Степа, который проживает в «доме восемь дробь один» рядом с нами, все они вынуждают вспомнить причудливую Страну Чудес, некогда созданную Льюисом Кэрроллом.
Примечания:
1 — Первый русской перевод «Приключений Алисы в Стране Чудес» был издан в 1909 году.
2 — St. Dodgson Collingwood. The Life and Letters of Lewis Carroll, Lnd., 1898.
3 — Подчиняющийся принятому порядку вещей.
4 — А. И. Герцен. Собр. соч. в 30-ти тт., М., АН СССР, 1957, т. XI, стр. 285.
5 — Ср. «И мы никуда от этого не уйдем! Будем нить чай, острить… Ускользает наша молодость. Понимаете ли вы это?» — в пьесе Дж. Осборна «Оглянись во гневе» (Look Back in Anger, 1956).
6 — Королевский крокет и суд у Льюиса Кэрролла напоминает по атмосфере и приему стихотворный отрывок И. С. Тургенева «Крокет в Виндзоре» (1876).
Дмитрий Михайлович Урнов.
Предисловие к изданию «Alice’s Adventures in Wonderland»
(«Приключения Алисы в Стране чудес» на английском языке);
М.: Издательство «Прогресс», 1967