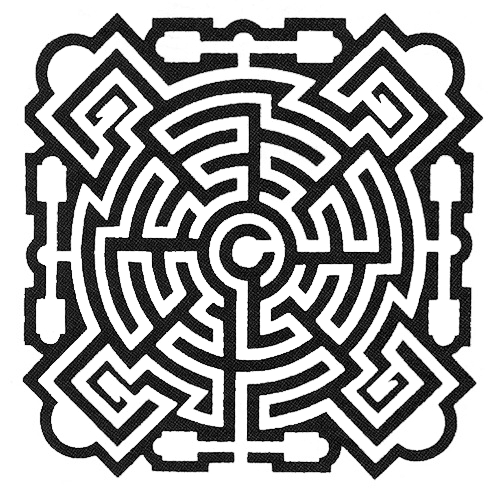Рубрика «Параллельные переводы Льюиса Кэрролла»
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ | след. >>>

Рис. Harry Furniss (1889).
ОРИГИНАЛ на английском (1889):
CHAPTER 17.
THE THREE BADGERS.
Still more dreamily I found myself following this imperious voice into a room where the Earl, his daughter, and Arthur, were seated. «So you’re come at last!» said Lady Muriel, in a tone of playful reproach.
«I was delayed,» I stammered. Though what it was that had delayed me I should have been puzzled to explain! Luckily no questions were asked.
The carriage was ordered round, the hamper, containing our contribution to the Picnic, was duly stowed away, and we set forth.
There was no need for me to maintain the conversation. Lady Muriel and Arthur were evidently on those most delightful of terms, where one has no need to check thought after thought, as it rises to the lips, with the fear ‘this will not be appreciated—this will give’ offence— this will sound too serious—this will sound flippant’: like very old friends, in fullest sympathy, their talk rippled on.
«Why shouldn’t we desert the Picnic and go in some other direction?» she suddenly suggested. «A party of four is surely self-sufficing? And as for food, our hamper—»
«Why shouldn’t we? What a genuine lady’s argument!» laughed Arthur. «A lady never knows on which side the onus probandi—the burden of proving—lies!»
«Do men always know?» she asked with a pretty assumption of meek docility.
«With one exception—the only one I can think of Dr. Watts, who has asked the senseless question
‘Why should I deprive my neighbour
Of his goods against his will?’
Fancy that as an argument for Honesty! His position seems to be ‘I’m only honest because I see no reason to steal.’ And the thief’s answer is of course complete and crushing. ‘I deprive my neighbour of his goods because I want them myself. And I do it against his will because there’s no chance of getting him to consent to it!'»
«I can give you one other exception,» I said: «an argument I heard only to-day—-and not by a lady. ‘Why shouldn’t I walk on my own forehead?'»
«What a curious subject for speculation!» said Lady Muriel, turning to me, with eyes brimming over with laughter. «May we know who propounded the question? And did he walk on his own forehead?»
«I ca’n’t remember who it was that said it!» I faltered. «Nor where I heard it!»
«Whoever it was, I hope we shall meet him at the Picnic!» said Lady Muriel.
«It’s a far more interesting question than ‘Isn’t this a picturesque ruin?’ Aren’t those autumn-tints lovely?’ I shall have to answer those two questions ten times, at least, this afternoon!»
«That’s one of the miseries of Society!» said Arthur. «Why ca’n’t people let one enjoy the beauties of Nature without having to say so every minute? Why should Life be one long Catechism?»
«It’s just as bad at a picture-gallery,» the Earl remarked. «I went to the R.A. last May, with a conceited young artist: and he did torment me! I wouldn’t have minded his criticizing the pictures himself: but I had to agree with him—or else to argue the point, which would have been worse!»
«It was depreciatory criticism, of course?» said Arthur.
«I don’t see the ‘of course’ at all.»
«Why, did you ever know a conceited man dare to praise a picture? The one thing he dreads (next to not being noticed) is to be proved fallible! If you once praise a picture, your character for infallibility hangs by a thread. Suppose it’s a figure-picture, and you venture to say ‘draws well.’ Somebody measures it, and finds one of the proportions an eighth of an inch wrong. You are disposed of as a critic! ‘Did you say he draws well?’ your friends enquire sarcastically, while you hang your head and blush. No. The only safe course, if any one says ‘draws well,’ is to shrug your shoulders. ‘Draws well?’ you repeat thoughtfully. ‘Draws well? Humph!’ That’s the way to become a great critic!»
Thus airily chatting, after a pleasant drive through a few miles of beautiful scenery, we reached the rendezvous—a ruined castle—where the rest of the picnic-party were already assembled. We spent an hour or two in sauntering about the ruins: gathering at last, by common consent, into a few random groups, seated on the side of a mound, which commanded a good view of the old castle and its surroundings.
The momentary silence, that ensued, was promptly taken possession of or, more correctly, taken into custody—by a Voice; a voice so smooth, so monotonous, so sonorous, that one felt, with a shudder, that any other conversation was precluded, and that, unless some desperate remedy were adopted, we were fated to listen to a Lecture, of which no man could foresee the end!
The speaker was a broadly-built man, whose large, flat, pale face was bounded on the North by a fringe of hair, on the East and West by a fringe of whisker, and on the South by a fringe of beard—the whole constituting a uniform halo of stubbly whitey-brown bristles. His features were so entirely destitute of expression that I could not help saying to myself—helplessly, as if in the clutches of a night-mare— «they are only penciled in: no final touches as yet!» And he had a way of ending every sentence with a sudden smile, which spread like a ripple over that vast blank surface, and was gone in a moment, leaving behind it such absolute solemnity that I felt impelled to murmur «it was not he: it was somebody else that smiled!»
«Do you observe?» (such was the phrase with which the wretch began each sentence) «Do you observe the way in which that broken arch, at the very top of the ruin, stands out against the clear sky? It is placed exactly right: and there is exactly enough of it. A little more, or a little less, and all would be utterly spoiled!»
«Oh gifted architect!» murmured Arthur, inaudibly to all but Lady Muriel and myself. «Foreseeing the exact effect his work would have, when in ruins, centuries after his death!»
«And do you observe, where those trees slope down the hill, (indicating them with a sweep of the hand, and with all the patronising air of the man who has himself arranged the landscape), «how the mists rising from the river fill up exactly those intervals where we need indistinctness, for artistic effect? Here, in the foreground, a few clear touches are not amiss: but a back-ground without mist, you know! It is simply barbarous! Yes, we need indistinctness!»
The orator looked so pointedly at me as he uttered these words, that I felt bound to reply, by murmuring something to the effect that I hardly felt the need myself—and that I enjoyed looking at a thing, better, when I could see it.
«Quite so!» the great man sharply took me up. «From your point of view, that is correctly put. But for anyone who has a soul for Art, such a view is preposterous. Nature is one thing. Art is another. Nature shows us the world as it is. But Art—as a Latin author tells us—Art, you know the words have escaped my memory «Ars est celare Naturam,» Arthur interposed with a delightful promptitude.
«Quite so!» the orator replied with an air of relief. «I thank you! Ars est celare Naturam but that isn’t it.» And, for a few peaceful moments, the orator brooded, frowningly, over the quotation. The welcome opportunity was seized, and another voice struck into the silence.
«What a lovely old ruin it is!» cried a young lady in spectacles, the very embodiment of the March of Mind, looking at Lady Muriel, as the proper recipient of all really original remarks. «And don’t you admire those autumn-tints on the trees? I do, intensely!»
Lady Muriel shot a meaning glance at me; but replied with admirable gravity. «Oh yes indeed, indeed! So true!»
«And isn’t strange, said the young lady, passing with startling suddenness from Sentiment to Science, «that the mere impact of certain coloured rays upon the Retina should give us such exquisite pleasure?»
«You have studied Physiology, then?» a certain young Doctor courteously enquired.
«Oh, yes! Isn’t it a sweet Science?»
Arthur slightly smiled. «It seems a paradox, does it not,» he went on, «that the image formed on the Retina should be inverted?»
«It is puzzling,» she candidly admitted. «Why is it we do not see things upside-down?»
«You have never heard the Theory, then, that the Brain also is inverted?»
«No indeed! What a beautiful fact! But how is it proved?»
«Thus,» replied Arthur, with all the gravity of ten Professors rolled into one. «What we call the vertex of the Brain is really its base: and what we call its base is really its vertex: it is simply a question of nomenclature.»
This last polysyllable settled the matter.
«How truly delightful!» the fair Scientist exclaimed with enthusiasm. «I shall ask our Physiological Lecturer why he never gave us that exquisite Theory!»
«I’d give something to be present when the question is asked!» Arthur whispered to me, as, at a signal from Lady Muriel, we moved on to where the hampers had been collected, and devoted ourselves to the more substantial business of the day.
We ‘waited’ on ourselves, as the modern barbarism (combining two good things in such a way as to secure the discomforts of both and the advantages of neither) of having a picnic with servants to wait upon you, had not yet reached this out-of-the-way region—and of course the gentlemen did not even take their places until the ladies had been duly provided with all imaginable creature-comforts. Then I supplied myself with a plate of something solid and a glass of something fluid, and found a place next to Lady Muriel.
It had been left vacant—apparently for Arthur, as a distinguished stranger: but he had turned shy, and had placed himself next to the young lady in spectacles, whose high rasping voice had already cast loose upon Society such ominous phrases as «Man is a bundle of Qualities!», «the Objective is only attainable through the Subjective!». Arthur was bearing it bravely: but several faces wore a look of alarm, and I thought it high time to start some less metaphysical topic.
«In my nursery days,» I began, «when the weather didn’t suit for an out-of-doors picnic, we were allowed to have a peculiar kind, that we enjoyed hugely. The table cloth was laid under the table, instead of upon it: we sat round it on the floor: and I believe we really enjoyed that extremely uncomfortable kind of dinner more than we ever did the orthodox arrangement!»
«I’ve no doubt of it,» Lady Muriel replied.
«There’s nothing a well-regulated child hates so much as regularity. I believe a really healthy boy would thoroughly enjoy Greek Grammar— if only he might stand on his head to learn it! And your carpet-dinner certainly spared you one feature of a picnic, which is to me its chief drawback.»
«The chance of a shower?» I suggested.
«No, the chance—or rather the certainty of live things occurring in combination with one’s food! Spiders are my bugbear. Now my father has no sympathy with that sentiment—have you, dear?» For the Earl had caught the word and turned to listen.
«To each his sufferings, all are men,» he replied in the sweet sad tones that seemed natural to him: «each has his pet aversion.»
«But you’ll never guess his!» Lady Muriel said, with that delicate silvery laugh that was music to my ears.
I declined to attempt the impossible.
«He doesn’t like snakes!» she said, in a stage whisper. «Now, isn’t that an unreasonable aversion? Fancy not liking such a dear, coaxingly, clingingly affectionate creature as a snake!»
«Not like snakes!» I exclaimed. «Is such a thing possible?»
«No, he doesn’t like them,» she repeated with a pretty mock-gravity.
«He’s not afraid of them, you know. But he doesn’t like them. He says they’re too waggly!»
I was more startled than I liked to show. There was something so uncanny in this echo of the very words I had so lately heard from that little forest-sprite, that it was only by a great effort I succeeded in saying, carelessly, «Let us banish so unpleasant a topic. Won’t you sing us something, Lady Muriel? I know you do sing without music.»
«The only songs I know—without music—are desperately sentimental, I’m afraid! Are your tears all ready?»
«Quite ready! Quite ready!» came from all sides, and Lady Muriel—not being one of those lady-singers who think it de rigueur to decline to sing till they have been petitioned three or four times, and have pleaded failure of memory, loss of voice, and other conclusive reasons for silence—began at once:—
«There be three Badgers on a mossy stone,
Beside a dark and covered way:
Each dreams himself a monarch on his throne,
And so they stay and stay
Though their old Father languishes alone,
They stay, and stay, and stay.«There be three Herrings loitering around,
Longing to share that mossy seat:
Each Herring tries to sing what she has found
That makes Life seem so sweet.
Thus, with a grating and uncertain sound,
They bleat, and bleat, and bleat,«The Mother-Herring, on the salt sea-wave,
Sought vainly for her absent ones:
The Father-Badger, writhing in a cave,
Shrieked out ‘ Return, my sons!
You shalt have buns,’ he shrieked,’ if you’ll behave!
Yea, buns, and buns, and buns!’«‘I fear,’ said she, ‘your sons have gone astray?
My daughters left me while I slept.’
‘Yes ‘m,’ the Badger said: ‘it’s as you say.’
‘They should be better kept.’
Thus the poor parents talked the time away,
And wept, and wept, and wept.»
Here Bruno broke off suddenly. «The Herrings’ Song wants anuvver tune, Sylvie,» he said. «And I ca’n’t sing it not wizout oo plays it for me!»
Instantly Sylvie seated herself upon a tiny mushroom, that happened to grow in front of a daisy, as if it were the most ordinary musical instrument in the world, and played on the petals as if they were the notes of an organ. And such delicious tiny music it was! Such teeny-tiny music!
Bruno held his head on one side, and listened very gravely for a few moments until he had caught the melody. Then the sweet childish voice rang out once more:—
«Oh, dear beyond our dearest dreams,
Fairer than all that fairest seems!
To feast the rosy hours away,
To revel in a roundelay!
How blest would be
A life so free—-
Ipwergis-Pudding to consume,
And drink the subtle Azzigoom!«And if in other days and hours,
Mid other fluffs and other flowers,
The choice were given me how to dine—-
‘Name what thou wilt: it shalt be thine!’
Oh, then I see
The life for me
Ipwergis-Pudding to consume,
And drink the subtle Azzigoom!»
«Oo may leave off playing now, Sylvie. I can do the uvver tune much better wizout a compliment.»
«He means ‘without accompaniment,'» Sylvie whispered, smiling at my puzzled look: and she pretended to shut up the stops of the organ.
«The Badgers did not care to talk to Fish:
They did not dote on Herrings’ songs:
They never had experienced the dish
To which that name belongs:
And oh, to pinch their tails,’ (this was their wish,)
‘With tongs, yea, tongs, and tongs!'»
I ought to mention that he marked the parenthesis, in the air, with his finger. It seemed to me a very good plan. You know there’s no sound to represent it—any more than there is for a question.
Suppose you have said to your friend «You are better to-day,» and that you want him to understand that you are asking him a question, what can be simpler than just to make a «?». in the air with your finger? He would understand you in a moment!
«‘And are not these the Fish,’ the Eldest sighed,
‘Whose Mother dwells beneath the foam’
‘They are the Fish!’ the Second one replied.
‘And they have left their home!’
‘Oh wicked Fish,’ the Youngest Badger cried,
‘To roam, yea, roam, and roam!’
«Gently the Badgers trotted to the shore
The sandy shore that fringed the bay:
Each in his mouth a living Herring bore—
Those aged ones waxed gay:
Clear rang their voices through the ocean’s roar,
‘Hooray, hooray, hooray!'»
«So they all got safe home again,» Bruno said, after waiting a minute to see if I had anything to say: he evidently felt that some remark ought to be made. And I couldn’t help wishing there were some such rule in Society, at the conclusion of a song—that the singer herself should say the right thing, and not leave it to the audience. Suppose a young lady has just been warbling (‘with a grating and uncertain sound’) Shelley’s exquisite lyric ‘I arise from dreams of thee’: how much nicer it would be, instead of your having to say «Oh, thank you, thank you!» for the young lady herself to remark, as she draws on her gloves, while the impassioned words ‘Oh, press it to thine own, or it will break at last!’ are still ringing in your ears, «—but she wouldn’t do it, you know. So it did break at last.»
«And I knew it would!» she added quietly, as I started at the sudden crash of broken glass. «You’ve been holding it sideways for the last minute, and letting all the champagne run out! Were you asleep, I wonder? I’m so sorry my singing has such a narcotic effect!».
.
____________________________________________________
Глава семнадцатая
ТРИ БАРСУКА
Пребывая в каком-то полусне, я последовал за этим настойчивым голосом и очутился в зале, где мирно сидели лорд, его дочь и Артур.
— Ну, наконец-то пожаловали! — с шутливой укоризной промолвила леди Мюриэл.
— Мне пришлось задержаться, — принялся я оправдываться. — Позвольте мне объяснить, что именно послужило причиной моего опоздания! — К счастью, никаких вопросов не последовало.
Карета была подана; мы погрузили в нее корзину с провизией для пикника и мирно отправились в путь.
Оказалось, мне не пришлось тратить усилий на поддержание разговора. Леди Мюриэл и Артур, по-видимому, с полуслова понимали друг друга, так что им не было надобности проверять каждое слово, слетающее с губ: а вдруг это покажется слишком резким — или слишком откровенным — или прозвучит излишне серьезно — а то и вовсе фамильярно. Их беседа протекала мирно, словно разговор старых друзей, питающих давнюю симпатию друг к другу.
— А не бросить ли нам пикник и поехать куда-нибудь еще? — неожиданно предложила она. — Нас четверо: компания самая подходящая. А что касается провианта — корзина всегда под рукой…
— «А не бросить ли!» Вот настоящий довод и аргумент прирожденной леди! — засмеялся Артур. — Леди никогда не знает, с какой стороны находится onus probandi, то бишь бремя доказательств!
— А разве мужчинам всегда это известно? — с мягкой иронией спросила она.
— Всем, кроме одного, кого я могу вспомнить, — то есть доктора Уоттса, задавшего совершенно бессмысленный вопрос:
Для чего же мне соседа
Против воли в рай тащить? —
Забавно, что точно таков же и аргумент в пользу Честности! Он звучит примерно так: «Я человек честный, потому что не вижу повода воровать!» Ответ воришки будет не менее исчерпывающим: «Я тащу у соседа ради его же блага. Я поступаю так потому, что не вижу возможности убедить его согласиться с этим!»
— За одним исключением, — отвечал я. — Это исключение — довод, который я услышал только сегодня, и притом не от дамы: «А почему бы мне не пройтись на голове?»
— Что за странная тема для беседы? — заявила леди Мюриэл, обернувшись ко мне; ее глаза так и искрились от смеха. — Не можем ли мы узнать, кто это задал такой вопрос? И кому вздумалось ходить на голове?!
— Никак не могу вспомнить, кто это сказал! — отозвался я. — Не помню даже, где я его слышал!
— Кто бы он ни был, надеюсь, мы увидимся с ним на пикнике! — заметила леди Мюриэл. — О, это куда более интересный вопрос, чем «Ах, какие причудливые руины!» или «Не правда ли, краски осени особенно трогательны?» На такие вопросы мне уже сегодня приводилось добрый десяток раз отвечать.
— Увы, это один из пороков света! — отвечал Артур. — И почему только люди не могут наслаждаться красотами природы и не болтать о них каждую минуту? Почему жизнь обязана быть бесконечно долгим уроком катехизиса? Почему?
— Это ничуть не лучше эпизода в картинной галерее, — заметил Граф. — В мае мне довелось побывать в Королевской академии художеств вместе с одним весьма самонадеянным молодым художником. О, он буквально измучил меня! Я не был готов к тому, что он будет критиковать едва ли не каждую картину; и мне пришлось либо соглашаться с ним, либо отстаивать свою точку зрения, что было еще хуже!
— И критика его, естественно, была уничтожающей? — спросил Артур.
— Не нахожу тут ничего естественного!
— Признайтесь, доводилось ли вам встречать самонадеянного умника, который принялся бы хвалить картину? Единственное, чего он опасается (помимо того, чтобы не остаться незамеченным), — это прослыть несведущим профаном! Когда вы хвалите картину, ваша репутация безупречного знатока висит на волоске. Допустим, картина жанровая, и вы осмеливаетесь сказать, что ее «рисунок решительно хорош». Кто-нибудь непременно покосится на нее и найдет, что пропорции на одну восьмую дюйма недотягивают до идеала. О, тогда ваша репутация как критика безвозвратно погибла! «Так ты говоришь, хороший рисунок, а?» — тотчас саркастически заметят друзья, и вам останется только обреченно повесить голову. Нет и еще раз нет! Единственный безопасный выход — это пожать плечами, если кому-нибудь вздумается заявить, что рисунок хорош. А затем следует как бы в раздумье повторить: «Хорош, вы полагаете? Хм», — тогда вы непременно прослывете авторитетным критиком!
Мило беседуя таким образом и проехав несколько миль по удивительно живописной местности, мы добрались до разрушенного замка, где уже собрались остальные участники пикника. Мы посвятили добрых два часа осмотру древних развалин; затем, по общему согласию, мы разделились на несколько групп или, лучше сказать, кучек и уселись на склоне холма, откуда открывался замечательный вид на старинный замок и его окрестности.
В мгновенно воцарившейся тишине вступил в свои владения — или, лучше сказать, взял ее под стражу — некий Голос, настолько плавный, монотонный и высокопарный, что каждый из гостей сразу понял, что никакие другие разговоры здесь просто немыслимы и что, если вовремя не принять каких-нибудь радикальных мер, мы будем обречены слушать странную Лекцию, у которой не видно конца!
Оратор оказался плотным, коренастым мужчиной, широкое, бледное лицо которого с севера замыкала копна волос, с востока и запада — кудрявые бакенбарды, а с юга — кайма бороды; все вместе образовывало правильной формы венчик (чтобы не сказать — нимб) каштаново-седоватых завитков. При всем том само лицо было до такой степени лишено всякого выражения, что я не мог удержаться, чтобы не сказать себе — почти бессознательно, словно в полусне: «Ба, да оно только намечено, как эскиз, но вовсе не прорисовано!» Тем не менее оратор заключал каждую свою фразу неожиданной улыбкой, которая появлялась, словно рябь на поверхности воды, и почти тотчас исчезала, оставляя после себя выражение до такой степени безучастное, что я всякий раз невольно бормотал: «Нет, это улыбается не он, а кто-то другой!»
— Видите? — (С этого слова неизменно начиналась едва ли не каждая его фраза.) — Видите, как живописно выделяется эта полуразвалившаяся арка, виднеющаяся на самом верху руин, на фоне безоблачного неба? Она возвышается совершенно прямо, просто удивительно! Будь она чуть больше или чуть меньше, все впечатление было бы испорчено!

Илл. Harry Furniss (1889)
— О вдохновенный архитектор! — пробормотал Артур так, чтобы его не услышал никто, кроме леди Мюриэл. — Ведь это же надо: предвидеть, как эффектно будут выглядеть эти развалины спустя столько веков после его смерти!
— Видите, как эффектно эти деревья расположены на склоне холма (за этим последовал картинный взмах руки и величественный жест человека, как бы создающего окрестный ландшафт), как туман, клубящийся над рекой, заполняет именно те промежутки, где нам для полноты эстетического впечатления необходима недосказанность? Здесь, на переднем плане, вполне допустимы несколько недурных резких штрихов: но фон без тумана — это уж слишком! Да это просто варварство! Да-да, без неопределенности не обойтись!
Произнося эти слова, оратор буквально уставился на меня, так что я почувствовал себя обязанным ответить ему, пробормотав, что я не любитель подобных эффектов и что мне доставляет куда больше удовольствия смотреть на что-нибудь, когда я четко вижу этот предмет.
— Ах вот как! — язвительно заметила важная персона. — С вашей точки зрения это, возможно, и верно. Но для того, чья душа тонко чувствует искусство, это просто примитивно. Природа — одно, а Искусство — нечто совсем иное. Природа показывает нам мир таким, каков он есть. А искусство — как говорит один латинский классик (надеюсь, вы помните?) — простите, эта цитата совсем вылетела у меня из головы…
— Ars est celare Naturam,[4] — с вежливой улыбкой напомнил Артур.
— Именно, именно! — с облегчением воскликнул оратор. — Весьма признателен вам! Ars est celare Naturam, но это далеко не всегда так. — Тут наш оратор сделал небольшую паузу, чтобы перевести дух. Этой счастливой возможностью тотчас воспользовался кто-то другой, и в тишине раздался звонкий голос:
— Боже, какие очаровательные развалины! Просто чудо! — воскликнула некая юная леди в очках, воплощение Ума и Учености, поглядывая на леди Мюриэл как на неисчерпаемый источник оригинальных замечаний. — Неужели у вас не вызывают восторга эти осенние цвета?! Я так просто без ума от них!
Леди Мюриэл обменялась со мной выразительным взглядом, но отвечала куда более светским тоном:
— О да, конечно! Вы правы!
— Разве это не странно, — продолжала юная леди, неожиданно и без обиняков переходя с глаголов Чувств на язык Науки, — что такое несравненное наслаждение нам доставляет простое воздействие цветовых лучей, падающих на сетчатку?
— Вы, я вижу, изучали физиологию? — галантно отозвался некий молодой доктор.
— О да! Премиленькая наука, не так ли?
Артур сдержанно улыбнулся.
— Парадокс, не правда ли, — проговорил он, — что изображение на сетчатке на самом деле перевернуто.
— Да, это какая-то загадка, — любезно отозвалась она. — И почему только мы не видим все перевернутым кверху ногами?
— А вам не доводилось познакомиться с теорией о том, что наш мозг тоже перевернут?
— Нет, никогда! Надо же, какой любопытный факт! Но чем это можно доказать?
— А вот чем, — отвечал Артур тоном, вобравшим в себя спесь доброго десятка профессоров. — То, что мы обычно называем вершиной мозга, на самом деле является его основанием, а то, что мы именуем основанием, представляет собой вершину. Как видите, все дело в терминах.
Последнее — такое звучное! — слово довершило его победу.
— Это просто замечательно! — с энтузиазмом воскликнула прелестная ученая леди. — Обязательно спрошу нашего лектора по физиологии, почему он никогда не рассказывал нам о столь замечательной теории!
— Хотел бы я присутствовать на лекции, когда она задаст ему такой вопрос! — шепотом обратился ко мне Артур. В этот момент мы, по сигналу леди Мюриэл, направились у месту, где стояли корзины с провизией, и занялись более субстанциальными заботами.
Мы прислуживали сами себе, то бишь служили себе слугами, как гласит модный варваризм (сочетающий в себе все недостатки каламбура и ничего не предлагающий взамен них), еще не достигший наших отдаленных мест. Само собой, джентльмены и подумать не могли о том, чтобы присесть, до тех пор, пока дамам не будут созданы все мыслимые и немыслимые удобства. Наконец, получив тарелку чего-то твердого и бокал чего-то жидкого, я занял местечко возле леди Мюриэл.
Оно было свободно и, по-видимому, предназначалось для Артура — явного чудака, но тот отчего-то застеснялся и кое-как поместился рядом с юной леди в очках, высокий и звонкий голосок которой то и дело забавлял общество прелестными фразочками типа: «Не человек, а воплощение всех достоинств!» или «Объект может быть познан только через посредство субъекта!» Артур мужественно сносил их, но на лицах некоторых гостей появилось смутное беспокойство, и я поспешил перевести разговор на не столь метафизическую тему.
— Когда я был еще ребенком, — начал я, — в дни, когда погода не слишком-то подходила для пикника под открытым небом, нам позволялось резвиться весьма странным образом, чему мы были ужасно рады. Скатерть снимали и стелили на пол под столом; мы рассаживались вокруг нее прямо на полу, и, смею вас уверить, обед в этой весьма неудобной позе казался нам куда вкуснее, чем обычное чинное застолье!
— Не сомневаюсь, что так оно и было, — отозвалась леди Мюриэл. — Всякий благовоспитанный ребенок более всего на свете ненавидит порядок. Мне кажется, что нормальный здоровый мальчишка-шалун с радостью изучал бы греческую грамматику, если бы ему только позволили делать это, встав на голову! И ваш обед на скатерти под столом наверняка обладал одной особенностью пикника, которая, на мой взгляд, является главным его недостатком.
— Возможность попасть под дождь?
— Вовсе нет. Возможность, точнее сказать — реальная ситуация, когда живые люди образуют вместе с пищей подобие некоего натюрморта! К тому же я ужасно боюсь пауков! Впрочем, мой отец не разделяет моих чувств, верно, папочка? — В этот момент Граф услышал, что говорят о нем, и повернулся к нам.
— Что поделаешь, у каждого свой крест, — отвечал он мягким и чуть грустным тоном, звучавшим в его устах как нельзя более естественно, — у всех свои симпатии и антипатии.
— Но прежде ты никогда не признавался в своих! — проговорила леди Мюриэл с серебристым смехом, прозвучавшим для моих ушей словно волшебная музыка.
Я понял, что все мои попытки напрасны, и умолк.
— Знаете, он просто не выносит змей! — громким шепотом проговорила она. — Ну, признайтесь, разве это не необоснованная неприязнь, а? Не понимаю, как можно не любить такое доверчивое, ласковое, нежное создание, как змея!
— Не любит змей?! — воскликнул я. — Да разве такое возможно?
— Увы, это правда, — с очаровательной серьезностью повторила она. — Нет, не подумайте, он их вовсе не боится. Просто он говорит, что они слишком скользкие.
Мое удивление было настолько велико, что я не сумел скрыть его. В самом звучании ее слов было нечто жуткое, сверхъестественное, что мне доводилось слышать от крошечного лесного духа. И мне стоило немалых усилий с беззаботным видом предложить:
— Давайте сменим эту неприятную тему. Давайте что-нибудь споем! Не угодно ли вам спеть, леди Мюриэл? Я знаю, вы иногда любите петь без аккомпанемента.
— Боюсь, единственная песня, которую я пою без аккомпанемента, покажется вам безнадежно сентиментальной! Ну как, слезы у вас наготове?
— Наготове! С радостью всплакнем! — послышалось со всех сторон, и леди Мюриэл — а она была не из тех дам-певичек, которые просто убеждены, что им de rigueur[5] следует отказываться петь до тех пор, пока их не попросят три, а то и четыре раза, жалуясь на плохую память, потерю голоса и прочие уважительные причины, — без всякого жеманства запела:
Три Барсука, собравшись вечерком,
На мху сидели среди скал,
И каждый мнил себя большим царем,
И ждал, и ждал, и ждал.
А их Отец, слабея день за днем,
Все ждал их, ждал и ждал.
Три Сельди все кружили в глубине
У тех замшелых скал опять,
И каждая старалась там, на дне,
Путь к счастью отыскать.
И каждой так хотелось в тишине
Вздыхать, вздыхать, вздыхать.Их Мама-Сельдь в соленую волну
Вперяла тщетно грустный взгляд.
Барсук-Отец все повторял одну
Мольбу, но — невпопад:
— Вернитесь, дети! Я вам все верну —
И торт, и шоколад!
— Боюсь, — сказала Сельдь, — что малыши
Могли дорогу позабыть.
— Да-да! — Барсук в ответ ей. — Хороши!
Их надо б приструнить!
И начали родители в тиши
Грустить, грустить, грустить.

Илл. Harry Furniss (1889)
Тут неожиданно вмешался Бруно.
— Знаешь, Сильвия, «Песню Сельдей» надо петь на другой мотив, — заметил он. — Но я не смогу спеть как надо, если ты мне не подыграешь!
Сильвия тотчас уселась на какой-то крохотный грибок, который рос прямо перед маргариткой, и, словно это был самый заурядный инструмент на свете, принялась играть на ее лепестках, перебирая их, как клавиши органа. Боже, что за дивная музыка зазвучала! Тоненькая-тоненькая, нежная-нежная!..
Бруно, склонив голову набок, несколько секунд внимательно слушал, пока не уловил мелодию. И тогда нежным детским голоском он запел:
Мечта, блаженство, благодать,
О чем не мог я и мечтать:
Срывать цветы счастливых дней
И пировать в кругу друзей!
Вот сон во сне,
Вот жизнь по мне —
Имбирный пудинг уплетать
И лимонадом запивать!
И если только в час иной
В краю ином, в земле чужой
Услышу голос: «Назови
Мечты заветные свои!» —
Вздохну во сне:
Вот жизнь по мне —
Имбирный пудинг уплетать
И лимонадом запивать!
— Можешь больше не играть, Сильвия! Верхние ноты мне даже удобнее брать без-з-з комплимента.
— Он хотел сказать «без аккомпанемента», — шепотом пояснила Сильвия, посмеиваясь над моей недогадливостью. С этими словами она убрала пальчики с органа.
Но Барсукам нет дела до Сельдей
И песен тоже им не петь:
Отведать им селедку без костей
Не доведется впредь…
Они хотят за хвостик их скорей
Поддеть, поддеть, поддеть!
Тут я заметил, что он отмечает интервалы, размахивая в воздухе пальчиком. Мне подумалось, что это очень удачная мысль. Знаете, это не сможет передать никакой звук — разве что знак вопроса.
Допустим, вы говорите своему другу: «Тебе сегодня лучше», и чтобы он понял, что вы задаете ему именно вопрос, что может быть проще, чем просто начертить пальцем в воздухе «?»? Друг тотчас поймет вас!
«Они ведь Рыбки… — Старший загрустил.
Вон Мать их плачет над волной…»
«Конечно, Рыбки! — Средний подтвердил.
Забыли дом родной!»
«Еще какие! — Младший завопил. —
Гуляют день-деньской!»
И Барсуки на бережок пошли,
Где ворошат песок ветра,
И в пасти бедных странниц принесли,
Когда пришла пора,
И голоса откликнулись вдали:
«Ура, ура, ура!»

Илл. Harry Furniss (1889)
— Они все вернутся домой, — проговорил Бруно, сделав небольшую паузу и выжидая, не захочу ли я что-нибудь сказать: видимо, он понимал, что без замечаний здесь не обойтись. Мне ужасно хотелось, чтобы в обществе установилось неписаное правило, по которому, закончив песню, певец должен сам что-нибудь сказать о ней, не ожидая реплик со стороны слушателей. Допустим, молодая особа только что исполнила («с неизъяснимо нежным чувством») знаменитый романс Шелли «Я возник из грез твоих». Насколько лучше и естественней было бы, если бы вместо того, чтобы выслушивать банальные «Браво! Примите нашу благодарность!», молодая леди, надевая перчатки и со страстным волнением произнося слова: «Прижми его к своей груди, не то оно разобьется!» — все еще звучащие у нас в ушах, заметила: «Но она этого не сделала. И оно разбилось…»
— Я так и знала! — негромко добавила она; в этот миг послышался звон разбитого бокала. — Вы держали его как-то странно, боком, и шампанское пролилось! Я уж подумала, что вы задремали! Прошу простить, что мое пение, как оказалось, обладает столь усыпляющим наркотическим действием!
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: 4 — Искусство — в умении скрыть природу /сущность/ — переиначенная поговорка: «Искусство — в умении скрыть искусство.» (лат.) 5 — Обязательно (франц.) . |
____________________________________________________
Перевод Андрея Москотельникова (2009):
ГЛАВА XVII
Три Барсука
Всё ещё в полусне я повиновался этому высокомерному приглашению и в следующее мгновение очутился в комнате, где сидели граф, его дочь и Артур.
— Ну вот, наконец! — сказала леди Мюриел тоном игривого упрёка.
— Задержался по дороге, — промямлил я. Но я совершенно не представлял себе, как мне объяснить им причину своей задержки! К счастью, вопросов не последовало.
Экипаж тотчас подали; корзина с крышкой, заключающая в себе все наши пожертвования пикнику, должным образом была куда-то упрятана, и мы пустились в дорогу.
С моей стороны не было никакой необходимости поддерживать разговор. С первого взгляда было ясно, что между леди Мюриел и Артуром установились те восхитительные отношения, когда собеседникам совершенно незачем взвешивать свои мысли, прежде чем они словами сорвутся с губ, из боязни, что «этого не оценят, это может обидеть, это звучит с претензией, это не по делу…» — иными словами, они совершенно спелись, словно давние друзья.
— А почему бы нам не забыть про пикник и не отправиться куда-нибудь в другую сторону? — неожиданно предложила леди Мюриел. — Разве наша команда из четырех человек не самодостаточна? А что до еды, так у нас есть наша корзина…
— Почему бы не? Вот уж истинно женский довод! — рассмеялся Артур. — Других доводов им не нужно — захотелось, того и достаточно!
— А разве мужчинам недостаточно? — поинтересовалась она.
— А ведь одно такое «почему бы не» я сегодня уже слышал, — вмешался я, — и даже не от женщины. «Почему бы мне не прогуляться у себя по голове?»
— Что за необычный предмет для такого вопроса! — изумилась леди Мюриел. Она обернулась ко мне, и её глаза так и брызгали весельем. — Нельзя ли узнать, кто предложил этот вопрос на обсуждение? И прогулялся ли он всё-таки у себя по голове?
— Не помню точно, кто так сказал, — в замешательстве проговорил я. — И даже где именно я это слышал!
— Кто бы это ни был, надеюсь, мы встретим его на пикнике! — воскликнула леди Мюриел. — Уж этот вопрос гораздо интереснее всяких там «Ну разве не живописны эти развалины?» или «Разве не милы эти оттенки осени?» Сегодня, как я чувствую, мне раз десять придётся отвечать на такие вопросы!
— Такова одна из прелестей Общества, — сказал Артур. — Почему, в самом деле, нельзя спокойно любоваться красотами Природы без того, чтобы тебя поминутно об этом спрашивали? Жизнь — это что, допрос или катехизис?
— Это даже ужаснее, чем художественная галерея, — вступил в разговор граф. — В мае я посетил Королевскую Академию с одним тщеславным молодым художником — так он совсем меня замучил! Я и не подумал бы возражать против его критики, направленной на сами картины, но он понуждал меня соглашаться с ним или даже приводить свои доводы в поддержку — а это было гораздо досаднее!
— И критика была уничтожающей, не так ли? — спросил Артур.
— Безо всякого «не так».
— Да знаком ли вам хоть один тщеславный человек, который отважился бы похвалить какую-нибудь картину? Ведь единственное, чего страшится такой человек (не считая полного игнорирования собственной персоны), так это сомнения в своей непогрешимости! Стоит вам хоть разок похвалить картину, как ваша репутация непогрешимого судьи повисает на волоске. Допустим, это будет портрет, и вы отважитесь сказать: «Хорошо очерчен». А кто-нибудь обмерит его и найдёт, что в одном месте нарушена пропорция на восьмую долю дюйма. И вы кончены как критик. «Вы сказали, очерчен хорошо?» — саркастически вопрошает ваш приятель, а вы краснеете и опускаете голову. Нет уж. Единственный безопасный путь — это если кто-нибудь вдруг скажет: «Хорошо очерчен» — тут же пожать плечами. «Хорошо очерчен? — в раздумье повторяете вы. — Хорошо? Гм!» Вот способ сделаться великим критиком.[1]
Непринуждённо беседуя о подобных материях, мы совершили приятное путешествие в несколько миль по живописной местности и наконец прибыли к месту встречи — развалинам замка — где уже собрались остальные участники пикника. Час-другой мы посвятили гулянию по развалинам, а потом, с общего согласия разбившись на несколько группок случайного состава, расселись на склоне насыпи, обеспечив себя прекрасным видом на старый замок и его окрестности.[2]
Последовала кратковременная тишина, которой неожиданно завладел — а точнее выразиться, которую взял под опеку — какой-то Голос, и голос столь размеренный, столь нудный, столь претенциозный, что каждый из нас, вздрогнув, почувствовал, что никакие другие разговоры в настоящую минуту невозможны и если не прибегнуть к какому-то отчаянному средству, то нам суждено выслушать ни много ни мало Лекцию, которая Бог весть когда закончится.
Говорящий оказался крепко сбитым человеком, чьё широченное, плоское и бледное лицо было обрамлено с севера бахромой волос, с запада и востока бахромой бакенбард, а с юга бахромой бороды — и всё это образовывало единый ореол нестриженой бурой шевелюры. Черты его лица были настолько лишены выражения, что я невольно сказал себе с тем чувством беспомощности, которое вы испытываете, находясь в когтях ночного кошмара: «Лицо лишь намечено карандашом и ещё ждёт последнего штриха!» Он имел обыкновение завершать каждую фразу внезапной улыбкой, которая возникала словно рябь на обширной и пустой поверхности и тут же исчезала, оставляя после себя незыблемую серьёзность, побуждавшую меня всякий раз вновь бормотать: «Нет, это не он; улыбается кто-то другой!»
— Примечаете? — Таким словцом беспардонный лектор начинал каждое предложение. — Примечаете, с каким безупречным изяществом эта осыпавшаяся арка — вон там, на самом верху развалин — выделяется на фоне чистого неба? Она помещена в самое точное место и имеет самые точные очертания. Немного правее или немного левее, и всё было бы совершенно испорчено!
— Какой одарённый зодчий! — проворчал Артур, не слышимый никем кроме леди Мюриел и меня. — Он, оказывается, предвидел тот эффект, который будет производить его работа, когда спустя столетия после его смерти здесь останутся одни развалины!
— А примечаете вон там, где эти три дерева на склоне холма, — и он указал на них мановением руки с покровительственным видом человека, который сам приложил руку к преобразованию ландшафта, — как туман, поднимающийся от реки, заполняет в точности те промежутки, где нам и нужна расплывчатость в целях художественного эффекта? Здесь, на переднем плане, несколько чётких штрихов вполне кстати, но фон без тумана — нет, знаете ли! Это просто варварство! Да, расплывчатость нам определённо необходима!
Произнеся эти слова, оратор с таким значением взглянул на меня, что я почувствовал обязанность ответить и пробормотал то-сё насчёт эффекта, который лично мне едва ли был нужен, заметив под конец, что всё-таки гораздо интереснее смотреть на вещи, если можешь их видеть.
— Именно так! — тотчас подхватил величественный лектор. — С вашей точки зрения сформулировано безупречно. Но с точки зрения любого, у кого душа предана Искусству, этот взгляд нелеп. Природа, — это одно. Искусство — это другое. Природа показывает нам мир, каков он есть. Но Искусство, как говорит один древний автор, Искусство, знаете ли… Из головы выскочило…
— Ars est celare Naturam [3], — подсказал Артур. Как всегда, он был на высоте.
— Именно так! — отозвался оратор с видимым облегчением. — Благодарю вас. Ars est celare Naturam — но это не так. — И в продолжение нескольких минут тишины лектор размышлял, нахмурив лоб, над этой проблемой. Такая благоприятная возможность не пропала даром, и в тишину вторгся другой голос.
— До чего милы эти древние развалины! — воскликнула девица в очках, олицетворённое Развитие Ума, и взглянула на леди Мюриел, словно та была признанным ценителем истинно оригинальных замечаний. — И как не залюбоваться этими оттенками осени, в которые окрашена листва деревьев? Я просто без ума!
Леди Мюриел бросила на меня многозначительный взгляд, однако ответила с замечательной серьёзностью:
— О да! Вы совершенно правы!
— Не странно ли, — продолжала девица, с обескураживающей внезапностью переходя от Сентиментальности к Научной Ментальности, — что простое попадание определенным образом окрашенных лучей на сетчатку способно дарить нас таким изысканным удовольствием?
— Так вы изучали физиологию? — вежливо осведомился некий молодой Доктор.
— Изучала. Правда, прелестная наука?
Артур чуть заметно улыбнулся.
— Как вы относитесь к тому парадоксу, — продолжал он, — что изображение на сетчатке получается перевёрнутым?
— Это ставит меня в тупик, — чистосердечно призналась девица. — И почему мы тогда не видим все вещи перевёрнутыми?
— Скажите, вам не знакома теория, согласно которой мозги в голове тоже перевёрнуты?
— Да что вы? Как это замечательно! Но как это определили?
— Очень просто, — ответил Артур с важностью десяти профессоров, уложенных в одного. — То, что мы называем вершиной нашего мозга, есть в действительности его основание, а то, что мы называем основанием, есть в действительности вершина. Это просто вопрос медицинской номенклатуры.
Последнее научное выражение закрыло дело.
— Восхитительно! — с воодушевлением вскричала прекрасная Физиологиня. — Я спрошу нашего преподавателя, почему он никогда не рассказывал нам об этой изящной теории!
— Многое я бы дал, чтобы присутствовать, когда она будет задавать этот вопрос, — прошептал мне Артур, когда, по знаку леди Мюриел мы направились к нашим корзинам, где погрузились в более насущное занятие.
«Обслуживали» мы себя сами, поскольку варварский обычай (совмещающий в себе две добрые вещи с целью пустить в ход недостатки обеих и достоинства ни одной) устраивать пикники с участием слуг, которые возвышались бы у вас с тылу, не достиг ещё этих мест, лежащих вдали от больших дорог, — и джентльмены, разумеется, даже не подумали садиться, пока дамы любовно раскладывали земные блага. Вскоре я завладел тарелкой кое-чего твёрдого, стаканом кое-чего жидкого и примостился возле леди Мюриел.
Это место оставили незанятым — явно для Артура, как важного гостя; но он застеснялся и присел возле девицы в очках, чей тонкий и резкий голосок пару раз уже разнёс по всему нашему Собранию зловещие фразы вроде «Человек есть сгусток качеств!» и «Объективность достигается только через субъективность!». Артур храбро всё сносил, однако на некоторых лицах уже появилась тревога, поэтому я понял, что самое время покончить с метафизическими вопросами.
— В раннем детстве, — начал я, — когда погода не благоприятствовала пикникам на открытом воздухе, нам позволялось устраивать пикники особого рода, которые мне ужасно нравились. Мы расстилали скатерть не на столе, а под столом, садились вокруг неё на пол и, смею сказать, получали больше удовольствия от такого чрезвычайно неудобного способа принятия пищи, чем когда нам сервировали общепринятым образом.
— Не сомневаюсь, — откликнулась леди Мюриел. — Всего сильнее дети ненавидят распорядок. Мне кажется, что любой мальчуган, утомлённый надзором со стороны взрослых, с огромным удовольствием будет заниматься хоть греческой грамматикой — но только если ему разрешат при этом стоять на голове. К тому же, ваши обеды на ковре избавляли вас от одной особенности пикника, которая, на мой взгляд, является его главным недостатком.
— Вероятность ливня? — предположил я.
— Нет, вероятность того… или даже неизбежность того, что к пище примешаются живые существа! Пауки для меня — это пугало. Но мой отец не сочувствует такому отношению — верно, папа? — добавила она, ибо граф услышал слово «отец» и обернулся.
— Все мы люди, — сказал он ровным печальным голосом, который, казалось, был для него совершенно естественен. — Каждый из нас испытывает отвращение к какому-нибудь своему животному.
— Но вы ни за что не угадаете его животного! — произнесла леди Мюриел с тем чудесным серебряным смешком, который звучал для моего уха настоящей музыкой. Куда уж тут мне было угадать!
— Он не любит змей! — произнесла она театральным шёпотом. — Скажете, законное отвращение? Но как можно не любить такое милое, такое льстиво и облегающе ласковое создание, как змея!
— Не любить змей! — воскликнул я. — Неужели такое возможно?
— И слышать о них не желает, — повторила она, мило напустив на себя суровость. — Не то чтобы он их боится… Просто не любит. Говорит, они слишком волнистые.
Я встревожился, причём гораздо сильнее, чем желал показать. Было что-то настолько неподходящее в этом отзвуке тех самых слов, которые я только недавно слышал от маленького лесного духа, что лишь огромным усилием воли мне удалось беззаботно проговорить:
— Давайте оставим эту неприятную тему. Не споёте ли вы нам что-нибудь, леди Мюриел? Всем известно, что вы умеете петь без аккомпанемента.
— Все песни, которые я знаю — без музыки — боюсь, ужасно сентиментальные! Слёзы у вас наготове?
— Наготове! Наготове! — донеслось со всех сторон, и леди Мюриел — а она отнюдь не была одной из тех поющих дамочек, которые считают приличным уступить мольбам только с третьего или четвёртого раза, да и то прежде сошлются на провалы в памяти, потерю голоса и другие решительные причины соблюдать тишину — сразу начала:
«Сидели на взгорочке три Барсука —
Совсем, ну совсем короли!
Их чахлый отец не вставал с лежака
Вдали от них, вдали,
Но жизнь, что привольна была и легка,
Вели они, вели.Слонялись там три молодые Трески —
Хотелось им рядом присесть;
Про вкусности пели они от тоски,
Про честь, про лесть, про месть;
Трещали как прутики их голоски:
Всё тресь, да тресь, да тресь.Мамаша Треска на солёной волне
Глядела по всем сторонам.
Папаша Барсук всё взывал в тишине
К далёким сыновьям:
“Я дам вам пирожных, вернитесь ко мне,
Я дам, я дам, я дам!”Сказала Треска: “Знать, ошиблись путём
Они в чужедальних краях”.
Ответил Барсук: “Лучше впредь их запрём
И станем на часах”.
Вот так старики рассуждали вдвоём
В слезах, в слезах, в слезах».
Здесь Бруно внезапно произнёс:
— Для той песенки, Сильвия, которую пели три Трески, нужна немножко другая мелодия. Но её я не смогу спеть, если ты не подыграешь.
Сильвия тут же уселась на крошечный грибок, который по чистой случайности рос рядышком с маргариткой, словно самый обычный в мире стульчик перед самым обычным в мире музыкальным инструментом, и принялась наигрывать на лепестках, как будто это были клавиши органа. Зазвучала музыка, такая восхитительная маленькая музыка! Просто крошечная!
Бруно склонил головку на бок и несколько секунд очень внимательно вслушивался, пока не сумел ухватить мотива. И тогда снова зазвенел мелодичный детский голосок:
Чудеснее сказок об эльфах и слаще
Ночных сновидений в таинственной чаще —
Для шумного пира, для тихой минуты,
Ночная ли тьма или блещут салюты —
Отбрось ты любые сомненья —
Подходит одно угощенье:
Ты пудинг Ипвергис себе нарезай,
Затем Аззигума в бокал наливай!И если когда-то найдутся причины
Приюта искать на цветочках чужбины,
И спросят меня, приглашая обедать:
“Какого ты блюда желаешь отведать?”
То нет никакого сомненья —
Отвечу я без промедленья:
“Мне пудинг Ипвергис скорей подавай,
Затем Аззигума в бокал наливай!”
— Теперь можешь не играть, Сильвия. Ту первую мелодию я гораздо лучше пою без комплимента.
— Он имел в виду, без аккомпанемента, — прошептала Сильвия, улыбнувшись при виде моего удивлённого лица. Затем она сделала руками движение, словно задвигала регистры органа.
«Никак не признают рыбят Барсуки;
Трескучий противен им всхлип.
Они отродясь не едали ухи,
Не то б любили рыб.
И только щипают их за плавники,
Всё щип, да щип, да щип».
Должен заметить, что всякий раз, когда Бруно пел последнюю строку куплета, запятые он вычерчивал в воздухе указательным пальцем. Мне ещё в первый раз подумалось, что он это ловко придумал. Ну в самом деле, для них же не предусмотрено никакого звука — точно как и для вопросительного знака.
Предположим, вы сказали приятелю: «Тебе сегодня лучше» — и вам нужно показать ему, что вы задали вопрос. Тогда что может быть проще, чем начертить в воздухе пальцем знак вопроса? Ваш приятель сразу же вас поймёт!
«Вдруг старший промолвил: “Не рыбы ль они,
Чья Мать с чешуёй и хвостом?”
Второй отвечает: “Они! — и одни,
А где их отчий дом?”
А младший воскликнул: “Вдали от родни
Втроём, втроём, втроём!”Потопали к берегу три Барсука —
К полоске, где плещет прибой;
У каждого в пасти живая Треска
Счастливая с лихвой.
Звенят голосочки: “Зверята, пока!
Домой, домой, домой!”»
— Короче говоря, они все отправились по домам, — сказал Бруно, подождав с минуту, не собираюсь ли я чего спросить — он, очевидно, чувствовал, что хоть какое-то пояснение сделать всё же нужно. А мне, в свою очередь, сильно захотелось, чтобы в Обществе тоже было принято какое-нибудь такое правило, согласно которому в заключение каждой песни исполнитель сам бы высказывал направляющее замечание, не морща понапрасну лбы слушателям. Предположим, что некая юная леди закончила щебетать («скрипучим и срывающимся голосом») утончённое стихотворение Шелли «В сновиденьях о тебе прерываю сладость сна…» — насколько было бы приятнее, если бы не вы должны были тотчас же разражаться словами искренней благодарности, но сама певица, покуда натягивает перчатки, а в ваших ушах ещё дребезжат страстные слова «Ты прижми его к себе и разбиться не позволь», обязана была бы пояснить: «Должна заметить, что она не выполнила эту просьбу. Так что оно в конце концов разбилось».[4]
— Так я и знала, — прозвучал спокойный женский голос, когда я встрепенулся от звона бьющегося стекла. — Сначала вы всё сильнее наклоняли его, пока шампанское не пролилось, а потом… Мне показалось, что вы засыпаете. Очень сожалею, что моё пение произвело такое усыпляющее действие!
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: [1] Сам Кэрролл в зрелом возрасте любил посещать лондонскую Королевскую Академию. Привлекали его главным образом сюжетные картины академиков (воспоминанием об одном из таких посещений служит, например, стихотворение «Через три дня»). [2] Скорее всего, в роман оказались перенесены замковые развалины Гилфорда – городка, в котором большое семейство Доджсонов обосновалось в октябре 1868 года, поскольку вследствие кончины архидьякона Доджсона, произошедшей 21 июня 1868 года, оно оказалось вынуждено покинуть ректорский дом в Крофте, в котором провело почти двадцать пять лет, чтобы в него могла вселиться семья следующего исполняющего должность покойного.
Тогда-то Чарльз Лютвидж, став главой семьи и тем самым взвалив на себя опеку над семью незамужними сестрами и тремя младшими братьями, после некоторого периода раздумий остановил свой выбор на Гилфорде, где Доджсоны и сняли за 73 фунта стерлингов в год первую же приглянувшуюся им усадьбу в викторианском стиле – «Честнатс» («Каштаны»), непосредственно примыкавшую к землям, на которых расположены древние руины. Вопрос о том, почему выбран был именно Гилфорд, обсуждался в ряду других на выездном собрании в Гилфорде членами Североамериканского общества Льюиса Кэрролла в июле 2010 года, отчёт о котором был опубликован в №85 журнала «The Knight Letter». Роджер Аллен, докладчик по этому вопросу, высказал соображения насчёт невозможности для Чарльза Лютвиджа уделять родственникам надлежащее количество времени в случае, если бы они жили с ним в непосредственном соседстве, и разорительности квартирования в Лондоне; в то же время Кэрролла привлекли красоты городка и окрестных меловых холмов графства Сюррей, равно как и удобство проезда по железной дороге как из Лондона, так и из Оксфорда. Вероятно, было принято в расчёт и то, что в окрестных сёлах проживали друзья и знакомые Кэрролла. В Гилфорде же и сам Кэрролл уйдёт из жизни во время очередного посещения родных. [3] Искусство служит сокрытию природы (лат.). Артур опять озорничает. «Латинскому автору», а именно Овидию, принадлежит несколько иная мысль («Метаморфозы», книга X, стих 252, или, например, «Наука любви», книга II, стих 313). Кратко она звучит как «Ars est celare Artem»: [настоящее] искусство заключается в сокрытии искусства. [4] Речь идёт о стихотворении «Индийская серенада». Начальные строки, которыми его обозначает леди Мюриел, даны в переводе Бориса Пастернака, а вот заключительные Кэрролл цитирует неточно вплоть до искажения смысла (вероятно, в интересах рассказа), поэтому их перевод также дан соответственно контексту. «Оно» в объяснении исполнительницы — это сердце влюблённого. . |
____________________________________________________
Пересказ Александра Флори (2001, 2011):
ГЛАВА 17. ТРИ БАРСУКА
Вся моя рассеянность рассеялась, и я вошел в комнату, где сидели сам Граф, его дочь и Артур.
– Вот вы и прибыли, – сказала Леди Мюриэл с мягким упреком.
Я ответил, что, к сожалению, задержался, но больше ничего объяснить не мог, ибо причина задержки присутствовала здесь же. Но меня, к счастью, ни о чем не спросили.
Экипаж был подан, провизия размещена, и мы отправились на пикник. По дороге я размышлял о весьма парадоксальной ситуации. Формально был приглашен я, а доктор – вместе со мной. На деле же всё выходило наоборот: я оказывался ненужным приложением. Леди Мюриэл и Артур вели обыкновенную светскую беседу «ни о чем», то и дело натыкаясь на подводные камни: «это может оказаться непонятым», «это может показаться бестактным», «это выглядит слишком серьезным», «это выглядит не слишком серьезным» и так далее.
– А зачем нам пикник? – вдруг спросила Леди Мюриэл – Нас четверо, провизии достаточно – что нам еще нужно?
– Истинно женская логика! – рассмеялся Артур. – То есть, я хотел сказать: логика истинной Леди. Женщины обычно не знают, на чью сторону возложено бремя доказательств.
– А мужчины всегда это знают? – осведомилась она с очаровательной кротостью.
– Мне известно единственное исключение – некто доктор Уоттс, который задал абсурдный вопрос: «Почему я разоряю ближнего, а он этого не хочет?». Представляете себе подобный аргумент в пользу честности! Его позиция сводится к следующему: я честен, потому что не вижу причины украсть. Зато контраргумент вора отличается полнотой и последовательностью: я разоряю ближнего, потому что хочу присвоить его имущество; я это делаю против его желания, поскольку не имею оснований надеяться сделать это в соответствии с его желанием.
– Я могу назвать еще одно исключение, – вмешался я в разговор. – Этот пример я узнал несколько минут назад. Почему нельзя ходить на голове?
– Какой любопытный пример! – весело сказала Леди Мюриэл, поворачиваясь ко мне. – Но, поскольку вы узнали его несколько минут назад, можно предположить, что вы сами видели человека, умеющего ходить на голове, не так ли?
– Ну, это еще вопрос, можно ли его назвать человеком, – сказал я (подразумевая, впрочем, не крокодила, а Бруно).
– Простите, кого? – спросила Леди Мюриэл.
– Не знаю, – ответил я и добавил, повергнув общество в изумление. – Не помню.
– Кто бы это ни был, – сказала она, – я надеюсь, что мы встретим его на пикнике! Эта тема поинтереснее, чем традиционный вопрос «Прекрасная погода, не правда ли?». За последние несколько минут мне пришлось отвечать на него раз десять.
– Да, – согласился Артур, – это настоящее бедствие, причиняемое светскими условностями. Люди не могут просто наслаждаться хорошей погодой, им необходимо удостовериться, что она в самом деле хороша. (То ли он не понял намека Леди Мюриэл, то ли, наоборот, понял слишком ясно). И почему любая светская беседа превращается в катехизис из двух повторяющихся реплик!
– Не говорите! – воскликнул Граф. – Хотя бывает и хуже. Например, когда вам приходится беседовать с художниками об их картинах. Однажды я попал в безвыходное положение: мне пришлось несколько часов слушать одного нахрапистого молодого живописца. Я пробовал спорить с ним, он настаивал на своем, и беседа стала мучительно долгой. Наконец, я понял, что для спасения мне нужно согласиться со всеми его критическими воззрениями на искусство. Я согласился, и он тотчас же отпустил меня.
– Это были, конечно, нигилистические воззрения? – предположил Артур.
– Почему «конечно»? – удивился Граф.
– А вы видели, чтобы нахрапистый молодой живописец не был нигилистом? – объяснил Артур. – Он больше всего боится показаться дураком, похвалив что-нибудь невпопад, и отрицает всё, – кроме себя, разумеется. Если вы рискнули что-то похвались, ваша репутация повисает на тонкой нити. Допустим, вы видите квадрат и говорите: он нарисован превосходно. Ваши друзья, то есть оппоненты, отвечают на это ироническими взглядами, от которых вас бросает в жар. Нет, тому, кто хочет прослыть критиком, особенно проницательным критиком, следует превращать утверждение в вопрос. Говорите то же самое, но с другой интонацией: ОН нарисован превосходно? Или: он нарисован ПРЕВОСХОДНО? И уж совсем на худой конец: он НАРИСОВАН превосходно? Только тогда ваше мнение будут уважать. Впрочем, будет ли оно вашим мнением?
За этой приятной беседой мы незаметно доехали до изысканных развалин старинного замка на фоне живописного пейзажа, где остальные приглашенные на пикник созерцали руины или создавали натюрморты из привезенной провизии.
Наконец, почтенное собрание приготовилось подвергнуть критическому анализу эти натюрморты, как вдруг грянул властный Глас, который пленил всех, а лучше сказать – захватил, причем врасплох. Мгновенно воцарилась тишина, и стало ясно, что все праздные разговоры прекратились и мы обречены выслушать лекцию, которая, скорее всего, никогда не кончится.
Докладчик был плотного сложения с лицом плоским и круглым, как географическая карта одного из полушарий. Северный полюс обозначался макушкой со скудной карликовой растительностью, запад и восток – волосами-джунглями пегих бакенбард, а юг – жестким кустарником бороды. Его лицо, таким образом, выглядело ощетинившимся, но больше я не мог бы указать никаких примет – словно рисовальщик одним движением карандаша бросил на бумагу этот абрис, не прорисовав прочих черт.
Каждую свою фразу он сопровождал подобием улыбки. Но это была странная улыбка, словно кто-то ее кидал на поверхность его лица, и на ней возникало колыхание.
– Вы видите? – начинал этот Ирод каждую фразу, хотя собравшееся общество не было обществом слепых. – Вы видите эту покосившуюся арку, она выделяется на фоне безоблачного неба. Обратите внимание, как удачно найден угол наклона вправо. Еще несколько градусов – и вся экспрессия пропала бы!
– Нет, вы подумайте, – пробормотал Артур, обращаясь к Леди Мюриэл. – Какой гениальный архитектор: так точно вычислил угол наклона арки через сто лет после ее разрушения.
– Развалины замков представляют очевидный пример превращения полезного в прекрасное, – ответила она цитатой из Спенсера.
– Вы видите силуэты деревьев на склоне холма? – и оратор указал на них таким жестом, будто сам их нарисовал и они ожили. – Туман, поднимающийся от реки, заполняет точно те самые участки, которые для большего эффекта следует взять как можно менее отчетливо. Тона должны быть приглушенными. Что хорошего, когда пейзаж кричит? – взвизгнул он. – Это вульгарно!
После фразы «Это вульгарно!» докладчик выразительно посмотрел на меня и красноречиво замолчал. Я счел себя обязанным ответить и пролепетал, что, на мой взгляд любителя, все-таки лучше, если предмет можно рассмотреть.
– О, да! – злобно заявил он. – С точки зрения любителя, это однозначно лучше. Но вы не любитель. Вы даже не дилетант. Вы – профан, не имеющий представления о Воображении. Грубый натуральный мир – это одно, а высоты Воображения – уже другое. Как утверждает незабвенный… латинский автор… Э-э-э…
– Ars est celare Naturam, – мгновенно откликнулся Артур.
– Именно, благодарю вас, – облегченно вздохнул докладчик. – Именно, Ars est celare Naturam. Но я хотел сказать…
И, нахмурившись, он начал вспоминать, что хотел сказать: то ли искусство раскрывает натуру, то ли скрывает. Но этой паузы оказалось достаточно, чтобы он не мог сказать уже ничего. Эстафету вырвал другой голос.
– Какие очаровательные старинные руины! – кричала юная леди в очках – воплощенный Поток Сознания. – И какие выразительные блики на листьях деревьев! Вы не находите, что от этого невозможно не остаться неравнодушным. Не так ли? – и она вонзила взгляд поверх очков в Леди Мюриэл.
Леди Мюриэл, запутавшись в этих отрицаниях, бросила на меня взгляд, но, не дождавшись помощи, солидно ответила:
– Да?
– И разве не может не вызывать недоумения тот факт, – продолжала юная, но ученая леди, – что банальное воздействие некоторых участков заурядного светового спектра на обыкновенную сетчатку вульгарного глазного яблока дает нам отнюдь не тривиальное удовольствие?
– Простите, мисс, – вежливо спросил молодой врач. – Вы изучали анатомию?
– О, анатомия! – воскликнула она с воодушевлением. – Разве это не прелестная наука, полная самых изящных удовольствий?
Артур едва заметно улыбнулся:
– Возможно, нетривиальность вашего удовольствия возрастет, если уточнить, что изображение на сетчатке всегда оказывается перевернутым?
– Да, – согласилась леди, – это нельзя назвать тривиальным. Однако почему тогда мы не видим весь мир вверх тормашками?
– А вы не слыхали о том, что в мозгу изображения переворачиваются снова?
– Серьезно? – удивилась леди. – Какой забавный феномен! Но как это можно доказать?
– Итак, – докторальнее десяти докторов начал Артур, – то, что мы называем vertex, то есть, попросту говоря, макушка… – это вопрос терминологии…
Собрание пришло в восторг.
– О, как это верно, – воскликнул один из присутствующих, – проблема исключительно в терминологии. Хотелось бы только спросить почтенного Анатомического Лектора, почему он раньше не изложил нам эту изысканную теорию насчет языка?
– А я хотел бы знать, – прошептал мне Артур, – что он подразумевает под языком, особенно в анатомическом аспекте.
В это время Леди Мюриэл подала нам знак, и мы стали потихоньку продвигаться от живописных руин поближе к импровизированным натюрмортам, чтобы обсудить предметы более уместные, а главное – более приятные. Мы обслуживали себя сами, потому что пикник с официантами был бы настоящей дикостью. Варварство наших дней соединяет две хорошие вещи таким образом, что обе они превращаются в неудобства и ни одна – в удовольствие. Мы подождали, пока Леди Мюриэл устроится поудобнее, затем присоединились к ней. Я взял ломоть чего-то твердого, налил в бокал какую-то жидкость и примостился рядом с Леди Мюриэл.
Местечко, видимо, было придержано для Артура, но у него начался внезапный приступ застенчивости, и он принялся откровенно ухаживать за юной леди в очках, извергавшей – не за столом будь сказано – устрашающие сентенции наподобие: «Человек – это комплекс ощущений!», «Познание осуществимо лишь посредством трансцендентальных эманаций подсознания!» и тому подобное. Артур переносил это с бесстрастием античного стоика, но не все присутствующие были на это способны. Они бросали на юную леди озабоченные взгляды, и я подумал, что пора бы поговорить о чем-нибудь, не столь метафизическом. О чем? Разумеется, о погоде!
– В детстве, – начал я, – мы с братьями очень любил пикники, но погода не всегда позволяла. И тогда мы придумали один остроумный выход: расстилали под столом коврик, садились вокруг и наслаждались, делая вид, как будто обедаем. И в чем состояло наслаждение, как вы думаете? Именно в неудобстве. Это было еще неудобнее, чем обед на природе.
– Это можно понять, – откликнулась Леди Мюриэл, – потому что для благовоспитанного ребенка нет ничего приятнее, чем нарушение правил. Он может полюбить даже греческую грамматику – если будет зубрить ее, стоя на голове. А пикники на ковре даже делают экономию, поскольку вашему повару не нужно будет ничего готовить. Вы будете сыты уже одними неудобствами. Только одно из них кажется мне чрезмерным.
– Дождь? – спросил я.
– Нет, – ответила она. – Живые существа, которые могут забраться в корзины с едой. Я, например, не переношу пауков. Но мой отец не сочувствует со мной. Ты что-то хочешь сказать? – обратилась она к нему, поскольку Граф, уловив, что речь идет о нем, насторожился…
– Ничего особенного, – ответил он приятным баритоном. – Просто у каждого свой пунктик.
– А вот вы не угадаете, какой пунктик у него, – залилась серебристым смехом Леди Мюриэл.
Я согласился, что, скорее всего, не угадаю.
– Отец не любит змей! – громким шепотом сообщила она. – У него даже чувство отвращения какое-то рациональное. Вообразите, что можно не любить таких милых, ласковых, обольстительных, нежных тварей!
– Не любить змей! – возопил я. – О, возможно ли это?
– Но он не любит! – воскликнула она с неподражаемой интонацией. – И ведь не боится, а все-таки не любит. Говорит, что они скользкие. Ну, разве это не поразительно?
О да! Я был поражен – и даже больше, чем она могла себе представить. Ее слова прозвучали странным эхом признания, услышанного мной от маленького лесного эльфа. И мне стоило известного усилия собраться и спросить как ни в чем не бывало:
– Ну что мы все о змеях да о змеях! Кстати, вы не желаете нам спеть что-нибудь, Леди Мюриэл? Я знаю, что вы обворожительно поете безо всякого аккомпанемента.
– Да, – ответила она. – Только боюсь, что эти песни слишком сентиментальны. Когда я их пою, все кругом рыдают. Вы к этому готовы?
Я не совсем понял, к чему следует быть готовым: к рыданиям других или к своим собственным, и ответил неопределенно:
– Весьма, весьма.
Леди Мюриэл была не из тех вокалисток, которые ссылаются на то, что они «не в голосе», и начинают петь не раньше, чем получат письменное прошение, сопровождаемое тремя или четырьмя устными мольбами. Она запела:
Три Барсука на валуне,
Как будто на престоле,
У моря сидя при луне,
Ужасный вздор мололи.
А их в норе у мшистых скал,
Старик отец всё ждал и ждал.К замшелым шхерам занесло
Трех Шпрот из дальней дали
Они, вздыхая тяжело,
У берега сновали,
Вперяясь взором в толщу вод,
А что искали – кто поймет?Их мать тревожится: а вдруг
Они попались в сети?
И вторит ей отец Барсук:
– Куда ж вы делись, дети?
Отдам – вернитесь лишь домой –
Вам все игрушки до одной.– Меня и слушать не хотят! –
Посетовала Шпрота.
Барсук: – Моих строптивых чад
Домой не тянет что-то.
И, изнывая от тоски,
Страдали вместе старики.
Здесь Бруно вдруг прервал ее и сказал:
– А Шпроты исполнили арию Гурмана: они, бедные, изголодались. Это поется в другой тональности.
И запел:
В какое бы общество я ни пришел,
Пускай там от кушаний ломится стол,
Я не привередливое существо
Мне яства простые милее всего.
О, как я люблю положить на язык
Плумбировый пудинг и джем «Феерик»!А если я буду в чужой стороне,
Поклясться могу: не захочется мне
Каких-нибудь там экзотических блюд,
А лучше к обеду пускай подадут
Те яства, к которым я с детства привык:
Плумбировый пудинг и джем «Феерик».
Сильви разместилась на маленьком грибе, растущем перед маргариткой. Она перебирала лепестки цветка, словно клавиши органчика, и при этом слышалась негромкая чарующая музыка, такая же детская, как сам исполнитель. Бруно уловил тональность и сказал:
– А теперь можешь не играть, Сильви. Дальше я спою без музыки. У меня это получится даже звонче – как настоящая капель. Это называется петь о капели.
– Это называется: петь а-капелла, – сказала Сильви. Она лукаво посмотрела на меня и отодвинулась от органчика.
Но Барсуки не любят Шпрот –
Я тайны не открою –
Зверям водиться не идет
Со всякой мелюзгою.
Хотели разве что чуть-чуть
За хвостики их ущипнуть.
Во время пения Бруно пальцами обозначил в воздухе какие-то знаки в нужном месте. Ведь в устной речи нет знаков препинания – а между прочим, напрасно. Есть, конечно, интонация, но, по-моему, она не слишком помогает. Допустим, некто говорит приятельнице: «Вы сегодня лучше выглядите», а приятельница еще размышляет, что это – комплимент или вопрос. Но стоит нам изобразить вопросительный знак пальцем в воздухе, нас поймут незамедлительно!
И старший молвил: – Дело швах!
Малютки просят каши.
А средний: – Мама их в гостях
У нашего папаши.
А младший: – Так вернем же ей
Заблудших этих дочерей!Другие говорят: – Ты прав,
К тому же поздновато.
И, Шпрот зубами нежно сжав,
Пошли домой ребята.
И голоса вдали звенят:
– Виват! Виват! Виват!
– Так что все кончилось благополучно: они все вернулись к родителям, – объяснил мне Бруно, не то опасаясь, что я не понял морали, не то просто желая подвести итог. С некоторых пор считается особо хорошим тоном, когда артист, закончив песню, объясняет, о чем она, избавляя тем самым аудиторию от излишних умственных усилий. Допустим, юная леди только что, смущаясь и запинаясь на каждой ноте, спела романс на стихи Шелли, знакомые вам с детства. Насколько лучше было бы вам не кричать «Браво!», «Бис!» и тому подобное.
– Я это предвидела, – услышал я, когда я приходил в себя после взрыва и звона стекла. – Вы задели бутылку шампанского. Значит, вы заснули! Неужели мое пение слаще хлороформа?
____________________________________________________
Перевод Григория Кружкова (2012):
Три барсука
Сидели на горе три барсука
И грезили, витая в облаках,
Внимая гулу бурь издалека
И в ближней роще – щебетанью птах.
Они могли бы так сидеть века
В мечтах, в мечтах, в мечтах.Гуляли три Селедки под горой
(Уж так оно нечаянно сошлось)
И, заняты то песней, то игрой,
На Барсуков поглядывали вкось:
Авось, они заметят – под горой…
Авось, авось, авось!Селедка-мать рыдала на заре
На камне, слезы горькие лия;
Барсук-отец стонал в своей норе
И повторял: – Вернитесь, сыновья!
Вам пирога с черникою отре —
– жу я, -жу я, -жу я!И тетушке Селедке говорил:
– Теперь нам с вами тосковать все дни,
Век доживая из последних сил
Без деток, без семьи и без родни;
Остались мы – так, видно, Рок судил! —
Одни, одни, одни!А дочери Селедкины втроем
Плясали на лужайке краковяк
И распевали песенки о том,
Что жизнь – такой пленительный пустяк:
– Давай, подруженька, еще споем —
Пустяк, пустяк, пустяк!Был хор Селедок так громкоголос,
Что Барсуков отвлек от их мечты.
– А знает ли их Мать – вот в чем вопрос! —
Где бродят дочери до темноты?
Давно пора им накрутить всерьез
Хвосты, хвосты, хвосты.А были эти трое Барсуков
Неопытны, наивны, не хитры,
Они не ели жирных Судаков,
Не пробовали никогда икры;
Они не знали даже, вкус каков —
Селедочной икры!Но вера их добро была крепка,
И на ветвях затихло пенье птах,
Когда к волнам сошли три Барсука,
Неся беглянок бережно в зубах,
Туда, где Мать Селедка их ждала
В слезах, в слезах, в слезах!
____________________________________________________
***