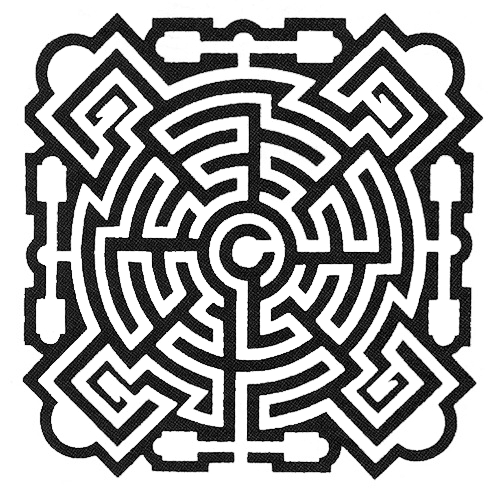Рубрика «Параллельные переводы Льюиса Кэрролла»
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ | след. >>>

Рис. Harry Furniss (1889).
ОРИГИНАЛ на английском (1889):
CHAPTER 5.
A BEGGAR’S PALACE.
That I had said something, in the act of waking, I felt sure: the hoarse stifled cry was still ringing in my ears, even if the startled look of my fellow-traveler had not been evidence enough: but what could I possibly say by way of apology?
«I hope I didn’t frighten you?» I stammered out at last.
«I have no idea what I said. I was dreaming.»
«You said ‘Uggug indeed!'» the young lady replied, with quivering lips that would curve themselves into a smile, in spite of all her efforts to look grave. «At least—you didn’t say it—you shouted it!»
«I’m very sorry,» was all I could say, feeling very penitent and helpless. «She has Sylvie’s eyes!» I thought to myself, half-doubting whether, even now, I were fairly awake. «And that sweet look of innocent wonder is all Sylvie’s too. But Sylvie hasn’t got that calm resolute mouth nor that far-away look of dreamy sadness, like one that has had some deep sorrow, very long ago—» And the thick-coming fancies almost prevented my hearing the lady’s next words.
«If you had had a ‘Shilling Dreadful’ in your hand,» she proceeded, «something about Ghosts or Dynamite or Midnight Murder—one could understand it: those things aren’t worth the shilling, unless they give one a Nightmare. But really—with only a medical treatise, you know—» and she glanced, with a pretty shrug of contempt, at the book over which I had fallen asleep.
Her friendliness, and utter unreserve, took me aback for a moment; yet there was no touch of forwardness, or boldness, about the child for child, almost, she seemed to be: I guessed her at scarcely over twenty—all was the innocent frankness of some angelic visitant, new to the ways of earth and the conventionalisms or, if you will, the barbarisms—of Society. «Even so,» I mused, «will Sylvie look and speak, in another ten years.»
«You don’t care for Ghosts, then,» I ventured to suggest, unless they are really terrifying?»
«Quite so,» the lady assented. «The regular Railway-Ghosts—I mean the Ghosts of ordinary Railway-literature—are very poor affairs. I feel inclined to say, with Alexander Selkirk, ‘Their tameness is shocking to me’! And they never do any Midnight Murders. They couldn’t ‘welter in gore,’ to save their lives!»
«‘Weltering in gore’ is a very expressive phrase, certainly.
Can it be done in any fluid, I wonder?»
«I think not,» the lady readily replied—quite as if she had thought it out, long ago. «It has to be something thick. For instance, you might welter in bread-sauce. That, being white, would be more suitable for a Ghost, supposing it wished to welter!»
«You have a real good terrifying Ghost in that book?» I hinted.
«How could you guess?» she exclaimed with the most engaging frankness, and placed the volume in my hands. I opened it eagerly, with a not unpleasant thrill like what a good ghost-story gives one) at the ‘uncanny’ coincidence of my having so unexpectedly divined the subject of her studies.
It was a book of Domestic Cookery, open at the article Bread Sauce.’
I returned the book, looking, I suppose, a little blank, as the lady laughed merrily at my discomfiture. «It’s far more exciting than some of the modern ghosts, I assure you! Now there was a Ghost last month—I don’t mean a real Ghost in in Supernature—but in a Magazine. It was a perfectly flavourless Ghost. It wouldn’t have frightened a mouse! It wasn’t a Ghost that one would even offer a chair to!»
«Three score years and ten, baldness, and spectacles, have their advantages after all!», I said to myself. «Instead of a bashful youth and maiden, gasping out monosyllables at awful intervals, here we have an old man and a child, quite at their ease, talking as if they had known each other for years! Then you think,» I continued aloud, «that we ought sometimes to ask a Ghost to sit down? But have we any authority for it? In Shakespeare, for instance—there are plenty of ghosts there—does Shakespeare ever give the stage-direction ‘hands chair to Ghost’?»
The lady looked puzzled and thoughtful for a moment: then she almost clapped her hands. «Yes, yes, he does!» she cried. «He makes Hamlet say ‘Rest, rest, perturbed Spirit!»‘
«And that, I suppose, means an easy-chair?»
«An American rocking-chair, I think—»
«Fayfield Junction, my Lady, change for Elveston!» the guard announced, flinging open the door of the carriage: and we soon found ourselves, with all our portable property around us, on the platform.
The accommodation, provided for passengers waiting at this Junction, was distinctly inadequate—a single wooden bench, apparently intended for three sitters only: and even this was already partially occupied by a very old man, in a smock frock, who sat, with rounded shoulders and drooping head, and with hands clasped on the top of his stick so as to make a sort of pillow for that wrinkled face with its look of patient weariness.
«Come, you be off!» the Station-master roughly accosted the poor old man. «You be off, and make way for your betters! This way, my Lady!» he added in a perfectly different tone. «If your Ladyship will take a seat, the train will be up in a few minutes.» The cringing servility of his manner was due, no doubt, to the address legible on the pile of luggage, which announced their owner to be «Lady Muriel Orme, passenger to Elveston, via Fayfield Junction.»
As I watched the old man slowly rise to his feet, and hobble a few paces down the platform, the lines came to my lips:-
«From sackcloth couch the Monk arose,
With toil his stiffen’d limbs he rear’d;
A hundred years had flung their snows
On his thin locks and floating beard.»
But the lady scarcely noticed the little incident. After one glance at the ‘banished man,’ who stood tremulously leaning on his stick, she turned to me. «This is not an American rocking-chair, by any means! Yet may I say,» slightly changing her place, so as to make room for me beside her, «may I say, in Hamlet’s words, ‘Rest, rest—'» she broke off with a silvery laugh.
«—perturbed Spirit!»‘ I finished the sentence for her. «Yes, that describes a railway-traveler exactly! And here is an instance of it,» I added, as the tiny local train drew up alongside the platform, and the porters bustled about, opening carriage-doors—one of them helping the poor old man to hoist himself into a third-class carriage, while another of them obsequiously conducted the lady and myself into a first-class.
She paused, before following him, to watch the progress of the other passenger. «Poor old man!» she said. «How weak and ill he looks! It was a shame to let him be turned away like that. I’m very sorry—» At this moment it dawned on me that these words were not addressed to me, but that she was unconsciously thinking aloud. I moved away a few steps, and waited to follow her into the carriage, where I resumed the conversation.
«Shakespeare must have traveled by rail, if only in a dream: ‘perturbed Spirit’ is such a happy phrase.»
«‘Perturbed’ referring, no doubt,» she rejoined, «to the sensational booklets peculiar to the Rail. If Steam has done nothing else, it has at least added a whole new Species to English Literature!»
«No doubt of it,» I echoed. «The true origin of all our medical books—and all our cookery-books—»
«No, no!» she broke in merrily. «I didn’t mean our Literature! We are quite abnormal. But the booklets—the little thrilling romances, where the Murder comes at page fifteen, and the Wedding at page forty —surely they are due to Steam?»
«And when we travel by Electricity if I may venture to develop your theory we shall have leaflets instead of booklets, and the Murder and the Wedding will come on the same page.»
«A development worthy of Darwin!», the lady exclaimed enthusiastically. «Only you reverse his theory. Instead of developing a mouse into an elephant, you would develop an elephant into a mouse!» But here we plunged into a tunnel, and I leaned back and closed my eyes for a moment, trying to recall a few of the incidents of my recent dream.
«I thought I saw—» I murmured sleepily: and then the phrase insisted on conjugating itself, and ran into «you thought you saw—he thought he saw—» and then it suddenly went off into a song:—
«He thought he saw an Elephant,
That practised on a fife:
He looked again, and found it was
A letter from his wife.
‘At length I realise,’ he said,
«The bitterness of Life!'»
And what a wild being it was who sang these wild words! A Gardener he seemed to be yet surely a mad one, by the way he brandished his rake—madder, by the way he broke, ever and anon, into a frantic jig—maddest of all, by the shriek in which he brought out the last words of the stanza!
[Image….The gardener]
It was so far a description of himself that he had the feet of an Elephant: but the rest of him was skin and bone: and the wisps of loose straw, that bristled all about him, suggested that he had been originally stuffed with it, and that nearly all the stuffing had come out.
Sylvie and Bruno waited patiently till the end of the first verse. Then Sylvie advanced alone (Bruno having suddenly turned shy) and timidly introduced herself with the words «Please, I’m Sylvie!»
«And who’s that other thing?’, said the Gardener.
«What thing?» said Sylvie, looking round. «Oh, that’s Bruno.
He’s my brother.»
«Was he your brother yesterday?» the Gardener anxiously enquired.
«Course I were!» cried Bruno, who had gradually crept nearer, and didn’t at all like being talked about without having his share in the conversation.
«Ah, well!» the Gardener said with a kind of groan. «Things change so, here. Whenever I look again, it’s sure to be something different! Yet I does my duty! I gets up wriggle-early at five—»
«If I was oo,» said Bruno, «I wouldn’t wriggle so early. It’s as bad as being a worm!» he added, in an undertone to Sylvie.
«But you shouldn’t be lazy in the morning, Bruno,» said Sylvie.
«Remember, it’s the early bird that picks up the worm!»
«It may, if it likes!» Bruno said with a slight yawn. «I don’t like eating worms, one bit. I always stop in bed till the early bird has picked them up!»
«I wonder you’ve the face to tell me such fibs!» cried the Gardener.
To which Bruno wisely replied «Oo don’t want a face to tell fibs wiz—only a mouf.»
Sylvie discreetly changed the subject. «And did you plant all these flowers?» she said.
«What a lovely garden you’ve made! Do you know, I’d like to live here always!»
«In the winter-nights—» the Gardener was beginning.
«But I’d nearly forgotten what we came about!» Sylvie interrupted. «Would you please let us through into the road? There’s a poor old beggar just gone out—and he’s very hungry—and Bruno wants to give him his cake, you know!»
«It’s as much as my place is worth!’, the Gardener muttered, taking a key from his pocket, and beginning to unlock a door in the garden-wall.
«How much are it wurf? «Bruno innocently enquired.
But the Gardener only grinned. «That’s a secret!» he said. «Mind you come back quick!» he called after the children, as they passed out into the road. I had just time to follow them, before he shut the door again.
We hurried down the road, and very soon caught sight of the old Beggar, about a quarter of a mile ahead of us, and the children at once set off running to overtake him.
Lightly and swiftly they skimmed over the ground, and I could not in the least understand how it was I kept up with them so easily. But the unsolved problem did not worry me so much as at another time it might have done, there were so many other things to attend to.
The old Beggar must have been very deaf, as he paid no attention whatever to Bruno’s eager shouting, but trudged wearily on, never pausing until the child got in front of him and held up the slice of cake. The poor little fellow was quite out of breath, and could only utter the one word «Cake!» not with the gloomy decision with which Her Excellency had so lately pronounced it, but with a sweet childish timidity, looking up into the old man’s face with eyes that loved ‘all things both great and small.’
The old man snatched it from him, and devoured it greedily, as some hungry wild beast might have done, but never a word of thanks did he give his little benefactor—only growled «More, more!» and glared at the half-frightened children.
«There is no more!», Sylvie said with tears in her eyes.
«I’d eaten mine. It was a shame to let you be turned away like that.
I’m very sorry—»
I lost the rest of the sentence, for my mind had recurred, with a great shock of surprise, to Lady Muriel Orme, who had so lately uttered these very words of Sylvie’s—yes, and in Sylvie’s own voice, and with Sylvie’s gentle pleading eyes!
«Follow me!» were the next words I heard, as the old man waved his hand, with a dignified grace that ill suited his ragged dress, over a bush, that stood by the road side, which began instantly to sink into the earth. At another time I might have doubted the evidence of my eyes, or at least have felt some astonishment: but, in this strange scene, my whole being seemed absorbed in strong curiosity as to what would happen next.
When the bush had sunk quite out of our sight, marble steps were seen, leading downwards into darkness. The old man led the way, and we eagerly followed.
The staircase was so dark, at first, that I could only just see the forms of the children, as, hand-in-hand, they groped their way down after their guide: but it got lighter every moment, with a strange silvery brightness, that seemed to exist in the air, as there were no lamps visible; and, when at last we reached a level floor, the room, in which we found ourselves, was almost as light as day.
It was eight-sided, having in each angle a slender pillar, round which silken draperies were twined. The wall between the pillars was entirely covered, to the height of six or seven feet, with creepers, from which hung quantities of ripe fruit and of brilliant flowers, that almost hid the leaves. In another place, perchance, I might have wondered to see fruit and flowers growing together: here, my chief wonder was that neither fruit nor flowers were such as I had ever seen before. Higher up, each wall contained a circular window of coloured glass; and over all was an arched roof, that seemed to be spangled all over with jewels.
With hardly less wonder, I turned this way and that, trying to make out how in the world we had come in: for there was no door: and all the walls were thickly covered with the lovely creepers.
«We are safe here, my darlings!» said the old man, laying a hand on Sylvie’s shoulder, and bending down to kiss her. Sylvie drew back hastily, with an offended air: but in another moment, with a glad cry of «Why, it’s Father!», she had run into his arms.
«Father! Father!» Bruno repeated: and, while the happy children were being hugged and kissed, I could but rub my eyes and say «Where, then, are the rags gone to?»; for the old man was now dressed in royal robes that glittered with jewels and gold embroidery, and wore a circlet of gold around his head.
.
____________________________________________________
Глава пятая
ДВОРЕЦ НИЩЕГО
Вероятно, просыпаясь, я сказал нечто странное: в ушах моих все еще звучали отголоски того ужасного вопля, хотя, впрочем, моя спутница, видимо, не обратила на это особого внимания. Итак, что бы такое мне придумать в свое оправдание?
— Надеюсь, я не напугал вас? — произнес я наконец. — Простите, я и сам не помню, что говорил. Наверное, я задремал.
— Вы сказали: «Неужели Уггуга?!» — отвечала молодая особа; ее губки вздрагивали, она пыталась улыбнуться, несмотря на все усилия казаться бодрой. — Правда, вы не сказали это, а — прокричали!
— Раскаиваюсь и прошу прощения! — вот все, что я смог ответить, чувствуя полную беспомощность. «Э, да у нее глаза Сильвии! — подумал я, не вполне уверенный в том, окончательно ли я проснулся. — И этот взгляд, сияющий чистотой и невинностью, — тоже совсем как у Сильвии. Правда, ротик у Сильвии совсем другой, не столь решительно очерченный, и в ее устремленном вдаль взгляде не сквозит печальная задумчивость, присущая тем, кому пришлось пережить скорбь…» — Тут причудливые фантазии едва не заставили меня пропустить слова дамы.
— Если вы читали «Кошмарный шиллинг», — продолжала она, — или что-нибудь о привидениях, или динамите, или на худой конец о полуночных убийцах, тогда вас можно понять, но все эти ужасы не стоят и шиллинга, пока не превращаются в настоящий ночной кошмар. Но ведь у вас всего лишь медицинский справочник, не так ли? — сказала дама, переводя глаза на книгу, за которой я задремал.
Ее дружелюбный, откровенный тон в первую минуту буквально обезоружил меня; в нем не было ни малейшего следа развязной самоуверенности, порой присущей детям, — а она казалась ребенком: ей, насколько я могу судить, было чуть больше двадцати; наоборот, она так и излучала невинную открытость почти ангельского существа, которому еще внове земные, обыденные — или, если угодно, варварские — стороны жизни общества. Примерно так же, подумалось мне, будет говорить и Сильвия лет этак через десять.
— Вы не упомянули о призраках, — продолжал я, чтобы поддержать разговор, — а они ведь бывают поистине ужасными.
— Да, пожалуй, — отвечала дама. — Банальные призраки на железных дорогах — я имею в виду призраков со страниц вагонного чтива — существа поистине жалкие. Мне даже хочется вместе с Александром Селькирком сказать: «Их миролюбие просто убивает меня!» Им никогда не стать ночными Убийцами. Они просто не могут «барахтаться в крови», чтобы спасти свою шкуру!
«Барахтаться в крови…» — повторил я эту весьма смелую фразу соседки. А разве можно барахтаться в какой-нибудь жидкости?
— Думаю, нет, — отвечала дама, словно она думала о том же, но много-много лет назад. — Для этого нужно что-нибудь густое. Ну, например, можно барахтаться в хлебном соусе. К тому же белое очень уместно для призрака, который собирается барахтаться в чем-нибудь!
— И что же, в этой книге вам встретились по-настоящему страшные призраки? — продолжал я.
— А как вы догадались? — отвечала она с бесхитростной открытостью и подала мне свою книжку. Я жадно раскрыл ее, ощущая приятную дрожь (какую вызывает, например, хорошая история о призраках) из-за тех «неслучайных» совпадений, которые столь неожиданно заставили меня погрузиться в круг ее интересов.
Увы. Книга, которую она читала, оказалась «Домашней кулинарией», раскрытой на статье «Хлебный соус».
Когда я возвращал ей книгу, выглядел я, вероятно, бледным как полотно, так что дама при виде моего замешательства даже рассмеялась:
— О, это куда более захватывающее чтение, чем современные бредни о призраках, уверяю вас! В прошлом месяце мне встретился призрак — я не имею в виду настоящих, сверхъестественных призраков — в одном журнале. О, он был совершенно лишен аромата и не смог бы и мышь испугать! Короче, он был из тех призраков, которым никто и стула не предложил бы!
«Три раза по двадцать и еще десять лет, плешь и очки тоже, в конце концов, имеют свои преимущества! — мысленно сказал я себе. — Вместо беззаботной юности и девичества, издающих время от времени какие-то односложные вопли, перед нами старик и ребенок, легко и просто находящие общий язык, словно они уже давным-давно знакомы!»
— Так вы полагаете, — продолжал я рассуждать вслух, — что нам иной раз стоит предложить призракам сесть? У Шекспира, например — а у него призраков сколько угодно, — можно найти такие ремарки для актеров: «Подает Призраку стул».
Дама на какой-то миг почувствовала замешательство, а затем захлопала в ладоши.
— Да, да, верно! — воскликнула она. — Гамлет у него говорит: «Сядь, отдохни, мятежный дух!»
— А как по-вашему: что означает «легкий стульчик», а?
— Ну, я думаю, нечто вроде американского кресла-качалки…
— Платформа Фэйфилд, Госпожа, пересадка на Эльфстон! — объявил проводник, открывая дверь купе, и через несколько мгновений мы со всем скарбом очутились на платформе.
Удобства для пассажиров, ожидающих поезда, были здесь, мягко говоря, не на высоте: всего одна деревянная скамейка, рассчитанная на трех человек, да и та была уже частично занята весьма древним старцем в продымленном плаще, который сидел, ссутулив плечи, опустив голову и положив руки на набалдашник своей палки, так что они служили как бы подушкой для морщинистого лица, выражавшего терпение и усталость.
— Пошел, пошел отсюда! — грубо окликнул старика станционный смотритель. — Убирайся лучше подобру-поздорову! Сюда пожалуйте, Госпожа! — продолжал он совершенно другим тоном. — Не угодно ли вам присесть, леди. Поезд будет через несколько минут. — Отвратительное заискивание и лакейство его, без сомнения, объяснялось адресом, указанным на одном из тюков багажа, где их владелица именовалась «леди Мюриэл Орм, направляется в Эльфстон через Фэйфилд».
Пока я наблюдал за тем, как старик медленно поднялся на ноги и сделал несколько шагов к краю платформы, у меня в голове сами собой сложились строки:
Монах с дрожащими руками
Поднялся с ложа своего;
Века усыпали снегами
Власы и бороду его.
Но леди почти не обратила внимания на этот эпизод. Искоса взглянув на «изгнанника», который едва держался на ногах, опираясь о палку, она повернулась ко мне.
— Знаете, это вовсе не американское кресло-качалка! Я бы тоже хотела, — проговорила она, освобождая мне место рядом, — сказать словами Гамлета: «Сядь, отдохни…» — И весело расхохоталась.
«…Мятежный дух», — продолжил я гамлетовскую фразу. — Да, это точное описание пассажиров железных дорог! А вот и замечательный пример, — продолжал я, когда крошечный местный поезд остановился у платформы и носильщики, бросившись к дверям купе, распахнули их. Один из них помог бедному старцу подняться в купе третьего класса, а другой почтительно проводил нас с дамой в вагон первого класса.
Дама пошла было за ним, но затем обернулась и поглядела на недавнего соседа.
— Бедный старец! — вздохнула она. — Какой у него слабый и болезненный вид! Ужасно стыдно, что его так грубо выпроводили. Мне очень жаль… — Вокруг быстро темнело, и эти слова были обращены не столько ко мне, сколько представляли собой размышления вслух. Я отошел на несколько шагов и остановился, поджидая ее, чтобы проводить до купе, где мы и продолжили разговор.
— Шекспир наверняка, хотя бы во сне, путешествовал по железной дороге: «мятежный дух» — фраза просто гениальная.
— «Мятежный», без сомнения, относится к разного рода книжкам, которые читаются исключительно в вагоне поезда. Даже если бы Пар не сделал ничего иного, он, по крайней мере, привнес в английскую литературу совершенно новый жанр!
— Вне всякого сомнения, — отозвался я. — Истинный источник всех наших медицинских справочников и книг по кулинарии…
— О, нет, нет! — прервала она меня. — Я не имела в виду нашу Литературу. Мы ведь люди совершенно ненормальные… Но книжки — это ужасное чтиво, где на пятнадцатой странице появляется Убийца, а на сороковой играется счастливая свадьба, — неужели все это тоже объясняется действием Пара?
— А вот когда мы будем ездить на электропоездах — позволю себе развить вашу теорию, — мы перейдем с книжек на листовки, и убийство и свадьба у нас будут мирно соседствовать на одной и той же странице.
— Да, прогресс, достойный Дарвина! — с пафосом воскликнула дама. — Правда, вы поворачиваете эту теорию в обратном направлении. Вместо того чтобы развить мышь в слона, вы превращаете слона в мышь!
Здесь поезд очутился в туннеле, и я, откинувшись на спинку, на мгновение закрыл глаза, пытаясь воскресить в памяти отдельные моменты сна. «Мне показалось, это…» — сонным голосом пробормотал я; но тут фраза начала развиваться сама, по принципу «ты думаешь, что видишь — он думает, что видит», и неожиданно превратилась в странную песенку:
Ему подумалось: пред ним
Дудит на флейте Слон,
А пригляделся — и письмо
Жены увидел он.
«Впервой я понял, — он сказал:
Суров судьбы закон!»
И что за сумасбродное создание распевало эти сумасбродные слова! Судя по виду, это был Садовник, судя по тому, как он размахивал граблями — безумный, судя по тому, что он то и дело пускался отплясывать удалую жигу, — более чем безумный, а если судить по воплям, которыми он сопровождал пение последней строки строфы, — самый безумный на свете.

Илл. Harry Furniss (1889).
Эти слова скорее относились к нему самому как обладателю слоновьей ноги; но во всем остальном он был, что называется, мешок с костями, и даже пучки сена, торчавшие из него во все стороны, свидетельствовали, что он когда-то был набит сеном, но теперь почти все сено повылезло.
Сильвия и Бруно терпеливо дожидались, когда он закончит первую песенку. Наконец Сильвия вышла чуть вперед (Бруно застеснялся и отвернулся) и представилась, проговорив:
— Здравствуйте! Меня зовут Сильвия!
— А что это там за существо? — спросил Садовник.
— Какое существо? — удивилась Сильвия, оглянувшись. — А, это Бруно. Он мой брат.
— А вчера он тоже был твоим братом? — озабоченно спросил Садовник.
— Разумеется, был! — воскликнул Бруно, который потихоньку приближался к ним. Ему вовсе не улыбалась перспектива не принимать участия в разговоре.
— Ах вот как! — со вздохом проговорил Садовник. — Подумать только, как все меняется. Куда ни погляди, все стало другим. Но я помню свои обязанности! Я каждое утро встаю в пять…
— О-о-о! — протянул Бруно. — А меня не заставишь подняться в такую рань. Это так же ужасно, как быть червяком! — добавил он вполголоса.
— Стыдно так долго лениться по утрам, Бруно! — возразила Сильвия. — Не забывай, ранняя пташка клюет червячков!
— Ну и пусть, на здоровье! — позевывая, отвечал Бруно. — Мне эти червяки вовсе не нравятся. Поэтому-то я и валяюсь в постели до тех пор, пока ранняя пташка не склюет их всех!
— Удивляюсь, с каким лицом вы говорите мне всю эту чепуху! — крикнул Садовник.
На что Бруно резонно ответил:
— Лицо тут ни при чем: это все рот.
Сильвия решила переменить тему.
— Это вы ухаживаете за этими цветами? — мягко спросила она. — Какой замечательный у вас сад! Знаете, я хотела бы остаться здесь жить.
— Зимой по ночам… — начал было Садовник.
— Я чуть было не забыла, зачем мы сюда пришли! — прервала его Сильвия. — Не будете ли столь любезны позволить нам пройти? Сюда только что пошел старый Нищий; видите ли, он был голоден, и Бруно хотел дать ему кусок кекса!
— Только этого это местечко и стоит! — пробормотал Садовник, доставая из кармана ключ и стараясь отпереть калитку в ограде сада.
— А сколько оно стоит? — невинным тоном полюбопытствовал Бруно.
Но Садовник только нахмурился.
— Это секрет! — пробурчал он. — Давайте, только скорее возвращайтесь! — крикнул он детям, когда те выбежали на дорогу. Я едва успел последовать за ними, прежде чем он запер калитку.
Мы побежали по дороге и вскоре увидели старика Нищего, который брел примерно в четверти мили впереди нас, и дети припустились бегом, чтобы нагнать его. Они бежали очень легко, едва касаясь земли, и я сам не мог понять, почему я не отставал от них. Но теперь эта загадка не слишком беспокоила меня: меня занимали совсем другие вещи.
Вероятно, старый Нищий был совсем глухим, поскольку он не обращал никакого внимания на громкие крики Бруно и продолжал устало брести по дороге, не останавливаясь, пока малыш не нагнал его и не вручил пресловутый кусок кекса. Бедный мальчик едва переводил дух и смог проговорить одно-единственное слово «кекс!» — правда, не столь решительно, как совсем недавно произнесла его Ее Превосходительство, а с милой детской застенчивостью, глядя на старика глазами «существа, которое любит всех — больших и маленьких».
Старик мигом схватил кекс и с жадностью, напоминающей голодных зверей, проглотил его. Даже не поблагодарив своего маленького благодетеля, он повторял только: «Давай еще!», жадно глядя на перепуганного малыша.
— Больше нет! — со слезами на глазах проговорила Сильвия. — Свой я съела. Нам очень стыдно, что мы тогда отпустили вас. Простите нас, пожалуйста…
Я забыл конец этой фразы, потому что рассудок, к величайшему моему удивлению, вернул меня к леди Мюриэл Орм, которая и проговорила эти самые слова Сильвии — да-да, да еще и нежным голоском Сильвии, поглядывая на меня ее умоляющими глазками!
— Пошли со мной! — услышал я мгновение спустя; старик помахал рукой с величавой грацией, которая плохо вязалась с его дырявым нарядом, из-за куста, росшего на обочине дороги.
Тот начал быстро уходить в землю. В другой раз я просто не поверил бы собственным глазам или хоть немного удивился бы, но теперь, в этой странной ситуации, мой разум был полностью поглощен ожиданием того, что произойдет в следующую минуту.
Когда куст опустился совсем низко, я увидел мраморные ступени, уходившие вниз, в темноту. Старик шагал впереди, а мы с любопытством следовали за ним.
Поначалу на лестнице было так темно, что я едва угадывал очертания фигурок детей, которые, взявшись за руки, спускались вслед за провожатым. Но с каждой минутой становилось все светлее от странного серебристого света, разлитого в воздухе, хотя никаких ламп не было, и когда мы наконец вошли в какую-то комнату, в ней было светло почти как днем.
В комнате было восемь углов, в каждом из которых красовалось по роскошной колонне, украшенной шелковыми драпировками. Стена между колоннами была закрыта — на высоте примерно шесть или семь футов — вьющимися растениями, с которых свешивались грозди каких-то спелых плодов и благоухающие цветы, за которыми почти не было видно листьев. Где-нибудь в другом месте я бы удивился, увидев на одной ветке и плоды, и цветы; но здесь меня поразило лишь то, что ничего подобного я никогда прежде не видел. Над этими растениями в каждой стене было устроено полукруглое окно с цветными стеклами, а поверх всего этого великолепия виднелся сводчатый потолок, на котором тут и там поблескивали драгоценные камни.
Не находя слов от удивления, я обернулся, пытаясь понять, как же мы, ради всего святого, вошли сюда: в комнате не было ни одной двери и все стены были густо увиты вьющимися растениями.
— Здесь нам нечего опасаться, мои милые! — сказал старик, положив руку на плечо Сильвии и наклоняясь, чтобы поцеловать ее. Девочка отпрянула, едва переводя дух, но в следующий миг с криком: «Это же папа!» — бросилась обнимать его.
«Папа! Папочка!» — повторил Бруно; и когда счастливые дети вдоволь нацеловались с отцом, я протер глаза, словно спрашивая: «Куда же подевались лохмотья?» — потому что на старике были теперь королевские одежды, так и сверкавшие драгоценными камнями и золотым шитьем, а на голове его сияла золотая корона.
.
____________________________________________________
Перевод Андрея Москотельникова (2009):
ГЛАВА V
Дворец Нищего
Что в минуту пробуждения я нечто промямлил, в том не было никаких сомнений: сиплый сдавленный отзвук ещё барахтался у меня в ушах, да и без него изумлённый взгляд моей спутницы был тому достаточным доказательством; но вот как мне было теперь выкручиваться?
— Надеюсь, я вас не напугал? — пробормотал, наконец, я. — Сам не знаю, что у меня вырвалось. Я задремал.
— Вы сказали: «Уггуг, ещё чего!» — произнесла девушка трепетными губами, которые сами собой неудержимо растягивались в улыбку, несмотря на всё её старание сохранить серьёзность. — Даже и не сказали, а — прикрикнули.
— Прошу меня простить, — только и смог я ответить, ощущая себя раскаивающимся грешником во всей его беспомощности. «У неё Сильвины глаза, — подумал я ещё, хотя даже сейчас немного сомневался, проснулся ли я окончательно. — И этот ясный взгляд невинного изумления — тоже как у Сильвии. Но у Сильвии нет этого самоуверенного решительного рта и такого рассеянного взгляда мечтательной грусти, как будто давным-давно её поразила какая-то глубокая печаль…» И тут меня толпой обступили фантазии, увлечённый которыми я едва расслышал следующие слова девушки:
— Если бы у вас был с собой «Колдовской шиллинг», — продолжала она, — или что-нибудь о Привидениях, или про Динамит, или про Полночное Убийство, тогда ещё можно было бы понять: такие вещи ни шиллинга не стоят, если не вызывают Кошмаров. А так, от медицинского трактата, — нет, знаете ли… — Тут она, бросив взгляд на книгу, почти что послужившую мне подушкой, с милым презрением пожала плечиками.
Её дружелюбие, её беспредельная откровенность на секунду смутили меня; но в этом ребёнке — а она казалась почти ребёнком, и едва ли ей можно было дать больше двадцати — не было намёка ни на развязность, ни на дерзость, одна только искренность некоего небесного гостя, новая для наших дольних мест и тех условностей — а по мне, так варварских обычаев — что царят в Обществе. «Вот так же точно, — подумал я, — и Сильвия будет глядеть и разговаривать на втором десятке».
— Значит, Привидения вам неинтересны, — отважился предположить я, — если только они не устрашают по-настоящему?
— Вот именно, — подтвердила девушка. — Обычные Вагонные Привидения — я имею в виду, Привидения из книжек для чтения в вагонах, — никуда не годятся. Как сказал Александр Селькирк[24]: «Они настолько ручные, что дрожь пробирает!» И они никогда не совершают Полночных Убийств. И самим им валяться, «истекая кровью», вряд ли пристало!
— «Истекать кровью» — выражение слишком сильное [25]. Пожалуй, привидению подошло бы испускать флюиды.
— Вряд ли, — с готовностью ответила девушка, как если бы она давно над этим размышляла. — Истекать. Плавать в луже кро… чего-то вязкого. Например, на вас может протечь хлебная подливка. А она ведь белая, так что прекрасно подходит Привидению, если ему вздумается чем-то истечь.
— Значит, в этой вашей книге, — указал я, — есть по-настоящему ужасное Привидение?
— Как вы догадались? — воскликнула она с завораживающей искренностью и передала свою книгу мне.
Я нетерпеливо раскрыл её, чувствуя отнюдь не неприятный трепет (а именно такой, какой и возбуждает любая хорошая история о привидениях) при мысли об и впрямь внушающем дрожь совпадении моих собственных видений со столь неожиданно разоблачённым предметом, одновременно занимавшим и её досуг.
Это была Поваренная Книга, открытая на рецепте Хлебной Подливки.
Я вернул книгу, выглядя при этом, боюсь, слегка озадаченным, отчего девушка весело рассмеялась.
— Но это действительно захватывает гораздо сильнее, чем все современные истории о привидениях [26]. Было тут одно Привидение месяц назад — не настоящее, я хотела сказать, а Журнальное. Совершенно пресное Привидение. Оно даже мышь не напугало бы! Нет, такому Привидению стула никто не предложит [27]!
— Зрелые годы, лысина, очки — всё это, оказывается, имеет свои преимущества, — сказал я про себя. — Вместо какого-то несмелого юноши и застенчивой девушки, выдыхающих междометия через невыносимые паузы, мы имеем здесь пожилого мужчину и ребёнка, беседующих непринуждённо и раскованно, словно старые знакомые! Так вы считаете, — продолжал я вслух, — что временами следует предложить Привидению или Духу присесть? Полноте, они на нас и внимания не обратят! Согласно Шекспиру, например, вот здесь, вокруг нас, вертится множество духов — а есть ли хоть в одной Шекспировской пьесе ремарка «Подвигает Привидению стул»?
Лицо девушки на какую-то секунду приняло озадаченный вид, а затем она едва не захлопала в ладоши.
— Да, да, есть! — вскричала она. — Ведь Гамлет говорит у него: «Присядь, присядь, разгорячённый Дух!» [28]
— Тогда он, наверно, предлагает ему мягкое кресло?
— Думаю, американское кресло-качалку.
— Железнодорожный узел Фейфилд, миледи, пересадка на Эльфстон, — объявил проводник, отворяя двери вагона, и вскоре мы оказались на платформе, окружённые нашей кладью.
Для пассажиров, ожидающих здесь пересадки, на платформе не было подготовлено никаких удобств — одна-единственная деревянная скамья, явно не способная вместить больше трёх седалищ, да и та была [29] частично занята очень старым человеком в робе, который сидел с опущенными плечами и понурой головой. Морщинистым лицом, на котором застыло выражение терпеливой усталости, он, словно в подушку, уткнулся в собственные руки, обхватившие опёртую оземь клюку.
— Давай, проваливай, — грубо набросился на бедного старика станционный смотритель. — Не видишь, благородные господа стоят! Сюда, миледи! — добавил он совершенно другим тоном. — Если ваше сиятельство изволит присесть, поезд подойдёт через несколько минут. — Подобострастная услужливость его манер была, несомненно, вызвана отчётливо видным на чемоданах адресом, который объявлял, что багаж принадлежит «Леди МюриелОрм, на Эльфстон через Фейфилд».
Когда я увидел, как старик медленно поднимается на ноги и шлёпает по платформе, с моего языка сами собой сорвались строки:
«С дерюги драной встал монах,
С трудом стопой обретши твердь;
Сто лет — в браде и волосах
Сменилась снегом смоль иль медь» [30].
Но леди, моя спутница, едва ли обратила внимание на происходящее. Бросив лишь один-единственный взгляд на «изгнанника», стоявшего поодаль и робко опирающегося на свою палку, она повернулась ко мне.
— Да уж, это не американское кресло-качалка! Но позвольте и мне, — тут она слегка подвинулась, как бы освобождая рядом место для меня, — позвольте и мне сказать вам словами Гамлета: «Присядь, присядь…» — и она, не договорив, залилась серебряным смехом.
— «…разгорячённый Дух!» — закончил я за неё. — Подходящее название для пассажиров поезда! Хоть бы и такого, — добавил я, когда крошечный местный поезд подошёл к платформе и проводники засуетились вокруг, отворяя двери вагонов. Один из них помог бедному старику взойти в вагон третьего класса, в то время как другой подобострастно провожал леди и меня в первоклассное отделение.
Девушка задержалась на верхней ступеньке вагона, чтобы понаблюдать за взбирающимся в поезд стариком.
— Бедный старичок! — сказала она. — Он выглядит таким старым и больным! Негоже было так с ним обращаться. Мне очень жаль… — Но в этот момент до меня дошло, что её слова вовсе не были предназначены для моих ушей — она просто рассуждала вслух, сама того не замечая. Я прошёл в вагон и подождал, пока она присоединится ко мне. Тогда я возобновил нашу беседу.
— Шекспир, должно быть, ездил по железной дороге, пусть даже только в мечтах: «Разгорячённый Дух» — такое удачное выражение!
— Ну в нас-то, — подхватила девушка, — «горячность» происходит по большей части от этих чувствительных брошюр для чтения в поездах. Если бы даже Пар ни на что больше не годился, он, по крайней мере, добавил к Английской Литературе совершенно новые Жанры!
— Верно, — откликнулся я. — Вот откуда происхождение этих медицинских книг — и всех наших поваренных книг тоже…
— Да нет же, нет, — весело прервала она. — Я не имела в виду наши книги! Мы-то с вами совершенно ненормальны. Но вот эти брошюры — эти небольшие дразнящие романы, где на пятнадцатой странице Убийство, а на сороковой — Свадьба — они-то, несомненно, рождены Паром!
— А когда мы будем путешествовать при помощи Электричества — если мне позволительно развить вашу теорию, — то вместо брошюр у нас будут просто листовки, где Убийство и Свадьба окажутся на одной и той же странице.
— Развитие в духе Дарвина! — с энтузиазмом воскликнула девушка. — Только вы перевернули его теорию. Вместо развития мыши в слона вы пророчествуете о развитии слона в мышь! — Но тут мы нырнули в туннель, поэтому я откинулся на спинку сиденья и на время прикрыл глаза, пытаясь припомнить отдельные эпизоды моего недавнего сна.
— Кажется, я видел… — пробормотал я сонно, но моя фраза тут же обрела собственную жизнь и дальше потекла самостоятельно: — Кажется, вы сказали… Кажется, он думал… — И внезапно преобразовалась в песенку:
«Он думал — это просто Слон
Дудит в свою трубу.
Он присмотрелся — нет, жена
Долдонит: “Бу-бу-бу!”
Сказал он: “Что ж, и я узнал
Коварную Судьбу!”»
Что за идиот спел такую дурацкую песню? Похоже, то был Садовник, только несомненно спятивший: он остервенело размахивал над головой своими граблями; и вправду сумасшедший: он то и дело принимался отплясывать неистовую жигу; да просто бешеный: надо же так пронзительно прореветь последние слова своей песни!
В песне, кстати, содержался намёк на него самого, ибо ноги у него были слоновые, а верхняя часть тела — один скелет, обтянутый кожей, и колючие клочья соломы, разбросанные вокруг, наводили на мысль, что он каким-то чудным образом первоначально был весь набит соломой, только набивка выше пояса отчего-то повылазила.
Сильвия и Бруно терпеливо ожидали окончания первого куплета. Затем Сильвия сама по себе (Бруно неожиданно заробел) подошла к Садовнику и застенчиво представилась следующими словами:
— Будьте добры, я Сильвия!
— А то другое существо — оно кто? — сказал Садовник.
— Какое существо? — спросила Сильвия, поглядев вокруг. — Ах, это Бруно. Он мой брат.
— А вчера он был твоим братом? — беспокойно спросил Садовник.
— Конечно, был! — крикнул подкравшийся поближе Бруно. Мальчик обиделся, что его обсуждают, а в разговор не зовут.
— Ну-ну, — проговорил Садовник с глубоким вздохом. — А то ведь у нас тут глазом моргнуть не успеешь, как то, что было — уже не то. Стоит ещё раз повнимательнее приглядеться — и всё уже по-другому! Но у меня, знаете ли, дел по горло! Я начинаю корячиться с шести утра.
— Если бы я был садовником, — сказал Бруно, — я не стал бы корячиться так рано. Это похуже, чем быть змеяком, — добавил он полушёпотом, обращаясь к Сильвии.
— Но ты не должен лениться по утрам, Бруно, — сказала Сильвия. — Помни, что ранняя пташка червячка клюёт!
— Ну и пусть клюёт, если хочет! — сказал Бруно с лёгким зевком. — Мне змеяки не нравятся. Я буду лежать в кровати, пока ранняя пташка не переклюёт их всех!
— И ты нам в глаза говоришь такие вещи? — вскричал Садовник.
На что Бруно со знанием дела ответил:
— Я говорю вам не в глаза, а в уши.
Сильвия благоразумно сменила тему.
— А это вы посадили все эти цветы? — спросила она. — Какой чудесный садик вы сделали! Вы знаете, я бы хотела жить здесь всегда!
— Зимними ночами… — начал было Садовник.
— Но я совсем забыла, что мы собрались сделать! — перебила его Сильвия. — Не будете ли вы так любезны вывести нас на дорогу? Туда только что пошёл нищий старик — он был очень голоден, и Бруно хотел отдать ему свой пирог!
— Моё место его стоит, — проворчал Садовник, вынимая из кармана ключ и отпирая калитку в стене, огораживающей садик.
— А сколько стоит ваше место? — невинно спросил Бруно.
Садовник в ответ лишь усмехнулся.
— Секрет! — сказал он. — Возвращайтесь побыстрее, — крикнул он вдогонку детям, выбежавшим на дорогу. Я едва успел проскочить вслед за ними, прежде чем калитка вновь оказалась заперта.
Мы поспешили по дороге, и вскоре, приметив старика-нищего примерно в четверти мили впереди нас, дети бросились к нему со всех ног. Они неслись невесомо и быстро, совсем не касаясь земли, да и я сам перестал понимать, как это мне так легко удаётся не отстать от них ни на шаг. В любое другое время эта нерешённая проблема не давала бы мне покоя, но здесь и без того происходило так много занятного!
Старик-нищий был, вероятно, весьма туг на ухо, ибо не обращал никакого внимания на громкие крики, которыми Бруно пытался привлечь его внимание. Старик продолжал устало брести и остановился только тогда, когда мальчик забежал ему вперёд и протянул свой пирог. Бедный малютка никак не мог отдышаться и выдавил из себя всего одно слово: «Пирог!» — но зато оно получилось у него отнюдь не такое грубое и угрюмое, как недавно у Её Превосходительства, но по-детски мягкое и непосредственное.
Старик выхватил у мальчика пирог и жадно его проглотил, точно голодный зверь, но ни словом благодарности не одарил он своего маленького благодетеля — только прорычал: «Ещё, ещё!» — и уставился на перепуганных детей.
— Больше нету, — произнесла Сильвия со слезам на глазах. — Я свой съела. Стыдно, конечно, что вас так грубо прогнали. Мне очень жаль…
Конца фразы я не расслышал, ибо мысли мои переметнулись (чему я и сам несказанно удивился) к леди МюриелОрм, которая так недавно произнесла эти же самые слова — да, и тем же Сильвиным голосом, и с тем же блеском нежно печалящихся Сильвиных глаз!
— Ступайте за мной! — таковы были слова, которые пробудили меня от раздумий; произнеся их, старик с величавой грацией, так мало соответствовавшей его ветхому платью, взмахнул рукой над придорожными кустами, и они тут же начали никнуть к земле. В другое время я бы глазам своим не поверил или, на худой конец, почувствовал бы сильное изумление, но на этом странном представлении всё моё существо оказалось поглощено сильнейшим любопытством: что же дальше-то будет?
Когда кусты совершенно выстелились по земле, прямо за ними мы увидели мраморные ступени, ведущие куда-то вниз и во мрак. Старик первым двинулся по ним, а мы заспешили следом.
Лестница поначалу была столь тёмной, что я мог разглядеть только силуэты детей, которые, держась за руки, ощупью продвигались за своим ведущим; но с каждой секундой становилось всё светлее и светлее благодаря какому-то странному серебристому сиянию, разлитому, казалось, в самом воздухе, так как ни одной лампы не было приметно; и когда мы, наконец, достигли ровной площадки, то оказались в помещении, где было светло, как днём.
Помещение было восьмиугольным, и в каждом углу стояло по стройной колонне, обёрнутой шёлковой тканью. Стены меж колоннами были сплошь покрыты на высоту шести-семи футов вьющимися растениями, так густо увешанными гроздьями спелых плодов, что за ними и листьев-то было не увидать. В одном месте моё удивлённое внимание привлёкли плоды и цветы на одном и том же побеге — дело в том, что ни таких плодов, ни таких цветов я в жизнь свою не встречал. Выше этой поросли в каждой стене было проделано по круглому окну цветного стекла, а ещё выше находились арочные перекрытия, сплошь усыпанные драгоценным каменьями.
С неуменьшающимся изумлением обращал я свой взор то туда, то сюда, пытаясь постичь, как же мы здесь оказались, ибо дверей не было вовсе, а каждая стена густо заросла живописными вьюнами.
— Здесь нас никто не потревожит, дорогие мои! — произнёс старик, кладя руку на плечо Сильвии и наклоняясь, чтобы поцеловать её. Сильвия с отвращением отпрянула, но в следующее же мгновение раздался её радостный крик:
— Ой, это же отец! — и она кинулась в его объятья.
— Отец! Отец! — повторил за ней Бруно; и в то время как счастливое семейство обменивалось объятьями и поцелуями, я только и мог, что утирать свои глаза и приговаривать:
— Хорошо, а куда же подевались лохмотья? — ибо теперь старик был одет в королевское платье, мерцавшее драгоценностями и золотым шитьём, а голову его украшал золотой обруч.
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: 24 — Александр Селькирк (или Селькрейг) (1676—1721) — шотландский моряк. Повздорив с капитаном корабля «ЧинквеПортс» Томасом Страдлингом, был высажен на остров Хуан Фернандес, где провёл около четырёх лет в полном одиночестве. Послужил прототипом Робинзона Крузо и стал героем нескольких биографий. Данные слова взяты из стихотворения Уильяма Каупера «Одиночество Александра Селькирка»: так его герой отзывается о встреченных им на необитаемом острове диких животных, никогда не видавших человека. 25 — Приведённое здесь у Кэрролла английское выражения восходит по меньшей мере к «Эдуарду II» Кристофера Марло (1593 год; акт II, сцена 5). Выражение стало расхожим в криминальной хронике девятнадцатого века; уже в самом начале 1800-х годов в целый ряд американских книг для чтения в классах — а они впоследствии неоднократно переиздавались — вошёл рассказ о подвергшемся нападению человеке, который был бы непременно найден «истекающим кровью», если бы не собака, которая зализывала ему рану. 26 — Означает ли этот пункт про хлебную подливку, что наша новая знакомая готовится вскоре приступить к обязанностям хозяйки дома? К новым для неё обязанностям, должны мы сказать, ведь она с таким увлечением вникает в описание приготовления одного из самых повседневных английских блюд! Не с него ли и начала она чтение этой поваренной книги? 27 — Предложить привидению присесть нужно не только из обычной светской вежливости. Это — простейшее средство завязать с ним разговор. Как известно (см., хотя бы, Кэрроллову «Фантасмагорию», а также любое другое толковое сочинение о призраках, хотя бы «Гамлета» или «Фауста»), призраку не полагается заговаривать первым. 28 — Гамлет в первом акте одноимённой пьесы пытается успокоить тень своего отца, требующую мести. Разумеется, ни о каком стуле речи не идёт, леди Мюриел шутит. Просьба «Rest, rest» в устах Гамлета означает на самом деле не «Присядь» (как это слово могло быть понято в светской гостиной), но «Успокойся, не волнуйся». Так стоит в русских переводах «Гамлета». 29 — Согласно Русскому дневнику, на Доджсона очень хорошее впечатление произвела российская железная дорога. Вероятно, для некоторого объяснения этого факта можно сослаться на слова Чехова, сказанные им весной 1891 года в письме своим родным из путешествия в Ниццу по береговой железнодорожной ветке: «Заграничные вагоны и железнодорожные порядки хуже русских. У нас вагоны удобнее, а люди благодушнее. Здесь на станциях нет буфетов» (ПСС, Письма, т. 4. С. 214). 30 — «Песнь последнего менестреля» Вальтера Скотта, песнь II, строфа IV.
|
____________________________________________________
Пересказ Александра Флори (2001, 2011):
ГЛАВА 5. ПАЛАТЫ НИЩЕГО
Никаких сомнений: перед пробуждением я кричал. Об этом свидетельствовал изумленный взгляд моей визави. Да и отзвук душераздирающего хриплого крика всё еще стоял у меня в ушах. Но что я мог сказать в оправдание?
— Вы чем-то удивлены? — только и смог я пролепетать в конце концов. — Но, простите, я понятия не имею, что я сказал. Меня сморило.
— Вы сказали что-то про Жаборонка, — юная Леди пыталась сложить губы в подобие улыбки. Но они вздрагивали. — Если, конечно, это можно назвать: сказали. Вы кричали это!
— Простите, пожалуйста… — а что я еще мог ответить, готовый провалиться от смущения. «У нее глаза Сильви! — подумал я, не уверенный в том, что проснулся. — И этот милый взгляд, преисполненный святой простоты, — совсем как у нее. Но у Сильви не такая волевая линия рта, и нет такой затаенной печали во взгляде».
Мысли шли потоком, я отвлекся и не расслышал дальнейших слов Леди.
— Если бы у вас в руке был Ужасный Неразменный Шиллинг, — говорила она тем временем, — вы поняли бы, что всё, чем пугают детей: Призраки, Динамит, Тати в ночи — всё это не стоит гроша, если не страшно по-настоящему. Хотя, с медицинской точки зрения… — она кивнула на медицинский трактат, над которым я заснул, и очаровательно передернула плечами. Ее свобода в обращении — впрочем, вполне дружелюбная — слегка удивила меня. Но это не было так называемой детской наивностью. Ее манера скорее напоминала бесцеремонность ангела, слетевшего к нам и не знакомого с условностями земного — извините за выражение — этикета. Ей можно было дать лет двадцать, и я мог себе представить Сильви через десять лет.
— Следовательно, шиллингов вы боитесь больше, чем призраков, — рискнул предположить я. — По крайней мере, если призраки не столь ужасны.
— Пожалуй, — согласилась Леди. — Обычные духи железной дороги (те, о которых пишут в книгах) довольно слабосильны. Я согласна с Александром Селькирком: если в них что-то ужасает, то лишь банальность. Им никогда не превратиться в ночных убийц. Что в них убийственно — так это скука. Нет, никогда не смогут они погрязнуть в крови — хотя бы для собственного спасения. «Погрязнуть в крови» — это, конечно, гипербола — просто оборот речи.
— Ну, почему же просто оборот? — возразил я. — Это очень экспрессивный оборот. Если бы они погрязли в чем-нибудь другом, было бы не так выразительно. Могли бы они погрязнуть еще в чем-нибудь?
— Едва ли, — ответила Леди так уверенно, словно уже давно обдумала этот предмет. — Жидкость должна быть достаточно вязкой. Например, кетчуп (это новейшее американское изобретение) мог бы привлечь призрака, вызвать у него желание погрузиться, но представляете, если он в этом погрязнет!
— А что, вы все эти ужасы насчет призраков нашли в той книге? — поинтересовался я.
Она передала книгу мне. Я открыл ее с трепетом и не без предвкушения удовольствия от настоящей статьи о призраках. «Таинственное» неожиданно связало ее и меня… Книга оказалась кулинарной, с закладкой на статье «Кетчуп».
Я вернул книгу. Подозреваю, что у меня был довольно глупый вид. Леди мило засмеялась над моим замешательством:
— Это забавнее, чем все полтергейсты, вместо взятые, уверяю вас. В прошлом месяце был один призрак — не настоящий пришелец из потустороннего мира, а привидение из журнала — полнейшая безвкусица! Этот призрак не испугал бы и мыши. Нет, таких призраков не зовут за стол.
«А все же есть некоторое преимущество в почтенном возрасте, очках и даже лысине перед робкой юностью, запинающейся на каждом слове, — подумал я. — Вот старец и почти ребенок непринужденно беседуют, как будто век знакомы». А вслух сказал:
— Но ведь бывают случаи, когда призрака приглашают к столу. Нужно только иметь на это полномочия. Вот у Шекспира много призраков, но я не припомню, чтобы кто-то предлагал им сесть.
Леди задумалась на мгновение, потом вдруг захлопала в ладоши:
— А я помню! Я помню! Гамлет говорит: «Передохни, о потрясенный дух».
— И, прямо в духе новых постановок, предлагает ему кресло? — спросил я, слегка раздосадованный.
— Американское кресло-качалку, я думаю… — предположила она.
— Станция Фейфилд, — объявил Кондуктор. — Узловая.
И мы вышли на перрон со всем своим небольшим скарбом. Нельзя сказать, чтобы табличка «Вокзал», торчащая посреди платформы, соответствовала своему значению. Деревянная скамья, на которой могли бы уместиться от силы три человека, — вот и весь вокзал. Да и на той скамье уже сидел старик в потертой блузе, уткнувшись головой в ладони, положенные на рукоятку посоха. Его изможденное морщинистое лицо выражало совершенную покорность судьбе.
— Любезнейший! — вежливо сказал ему Начальник Станции. — Поскольку вы — персона нон грата, шли бы вы отсюда подобру-поздорову.
И совсем другим тоном обратился к Леди:
— Сюда, Ваша Милость. Садитесь. Поезд на Эльфилд через несколько минут.
Он, видимо, уже успел прочесть надпись на багажном ярлыке: «Леди МюриэлОрм: Эльфилд, транзитом через Фейфилд».
Я тем временем смотрел на старичка нищего, и в памяти моей возникло само собой:
Вот старец, жалок и убог,
кому-то даже и смешон,
но вам покамест невдомек,
кем может оказаться он.<1>
Но Леди как будто вовсе ничего не заметила. Скользнув взглядом по «персоне нон грата», она обратилась ко мне:
— Американского кресла-качалки здесь нет. Но если бы нашлось место для нее, а заодно и для меня, я сказала бы словами Гамлета: «Передохни…»
— …о потрясенный дух! — закончил я цитату. — Это сказано как будто о путешествии по железной дороге. Убедитесь сами.
Как раз в это время к платформе подошел маленький состав местного назначения, и проводники засуетились, отворяя двери вагонов. Кто-то помогал бедному старику влезть в вагон третьего класса, другой, подобострастно повел Леди в первый класс.
Тем временем Леди остановила взгляд на старике и сказала, ни к кому специально не обращаясь:
— Бедный старец! Это просто позор, что он тоже «нон грата». Ах, как мне жаль…
Не знаю, что означало «тоже», но я догадался, что она говорит сама с собой, возможно, даже не замечая этого. Я прошел за ней в вагон, и мы продолжили разговор.
— Создается впечатление, что Шекспир ездил по железной дороге. Иначе как бы ему пришло в голову столь удачное выражение — «потрясенный дух».
— «Потрясенный дух», — сказала она, — это выражение, специфическое для железной дороги. Если бы даже изобретение паровой тяги ни к чему больше не привело, оно так обогатило английскую литературу! Ведь надо же что-то читать в дороге.
— О да! — согласился я. — Все медицинские и кулинарные книги написаны только с этой целью.
— Нет, нет! — задорно возразила она. — Я не имею в виду всё, что у нас печатается. Это было бы чересчур. Иное дело небольшие дамские романы — с убийством на пятнадцатой странице и свадьбой на сороковой. Они-то, конечно, возникли на паровой тяге.
— Следовательно, когда появится электрическая тяга, — предположил я, от этих романов останутся одни буклеты, а убийство и свадьба совпадут во времени.
— О, это отдаленно напоминает эволюцию по Дарвину! — с энтузиазмом воскликнула Леди. — Только у вас все наоборот. Он из мухи делает слона, а вы гору превращаете в мышь.
Тут мы въехали в тоннель, и я закрыл глаза — все равно смотреть вокруг было не на что. Я обратил взгляд внутрь, пытаясь восстановить подробности недавнего сновидения.
— Мне казалось… что же мне казалось? — полусонно бормотал я про себя. Фраза выходила незаконченная. Нужно было как-то ее продолжить. Я вспомнил, что совсем недавно кто-то что-то говорил про слона, и у меня в голове сами собой возникли такие стихи:
Он думал, что ему концерт
Устроили слоны.
Глаза разул — лежит конверт
С запиской от жены.
— Мне жизнь явилась, — он сказал, —
С обратной стороны! <2>
Конечно, это была дичь, от первого до последнего слова. Но еще более диким был Садовник, который пел этот бред. Он был просто Ненормальный, да его так и звали — Ненормальный Садовник. Он размахивал своими граблями — и между прочим, домахался: он их сломал и превратил в подобие какого-то жуткого капкана. Покончив с граблями, этот Ненормальный проверещал еще более кошмарный куплет своей безобразной песни.
Выглядел он весьма причудливо: ноги у него были мощные, как у слона, а все остальное — кожа да кости. Вокруг него лежали соломенные веники, напоминавшие солому, выпотрошенную из чучела.
Сильви и Бруно терпеливо дождались окончания песни. Затем Сильви шагнула вперед (Бруно почему-то оробел) и осторожно сказала:
— С вашего позволения, меня зовут Сильви.
— А как я позволю вам назвать это? — спросил Садовник.
— Что именно? — Сильви в недоумении оглянулась. — А, это Бруно, мой брат.
— А вчера он уже существовал? — спросил Садовник.
— А то! — воскликнул Бруно. Он не хотел, чтобы о нем говорили как о постороннем, и предпочел сам участвовать в беседе.
— Ах, как это замечательно! — с облегчением вздохнул Садовник. — Все так быстро меняется — по крайней мере, в моем саду, — что не успеваешь определиться, что тебе делать. Только что перед тобой была синяя гусеница — допустим, в пять часов утра, — а потом смотришь: она уже бабочка. Но я как-то ухитряюсь отправлять свои обязанности. Встаю в пять утра и начинаю отправлять.
— А я бы никуда не отправлялся в пять часов, — сказал сестре Бруно, недовольный тем, что его, пусть косвенно, сопоставили с гусеницей. — Я не люблю вставать так рано.
— И напрасно, Бруно, — ответила Сильви. — Ранняя пташка съедает червя.
— Ну, ради такой гадости я не стал бы подниматься в пять часов, — сказал Бруно. — Пусть это делают пташки, если им так нравится.
— Ваше лицо, молодой человек, выражает ваши чувства так откровенно, — сказал Садовник.
На что Бруно резонно ответил:
— Ха! Я-то думал, что мои чувства откровенно выражает мой язык, а оказывается, еще и лицо…
— Этот прекрасный Сад вырастили вы? Я бы хотела остаться здесь навсегда!
— А вы, что — растение? — удивился Садовник. — Впрочем, все мы немножко растения. Немножко растения, немножко животные, немножко машины…<3> Остаться здесь навсегда — неплохая идея, но, знаете, зимними ночами…
Тут Сильви прервала его:
— Ой, совсем забыла! Нам надо бежать. Здесь только что был старый Нищий, совсем голодный, и Бруно хочет отдать ему кекс. Выпустите нас, пожалуйста.
— Мое место дорогого стоит, — загадочно пробормотал Садовник, отпирая им калитку.
— Дорогого — это сколько? — невинно поинтересовался Бруно.
— А вот не скажу, — ухмыльнулся Садовник. — Это секрет. Возвращайтесь скорее.
Он выпустил детей и закрыл дверцу. Я едва успел выскочить за ними следом.
Мы поспешили вниз по тропинке и очень скоро заметили старого Нищего примерно милях в четырех от нас. Дети кинулись догонять его. Они стремительно скользили по земле. Ума не приложу, как я не отстал от них тотчас же. Но эта проблема недолго занимала меня, потому что было еще на что обратить внимание.
Старый Нищий был, наверное, совсем глухим. Во всяком случае, на отчаянный зов Бруно он даже не оглянулся. Но вот Бруно все-таки настиг его, забежал вперед и протянул руку, запыхавшись:
— Кекс!
Бруно сказал это не со зверской интонацией, как Миледи-Заправительница некоторое время назад, а с детской застенчивостью и непосредственностью. Он смотрел на старика глазами, полными любви ко всему на свете — большому и малому.
Старик схватил кекс и начал пожирать его с жадностью голодного дикаря. Покончив с пирожным, он уставился на растерявшихся детей и прорычал:
— Еще! Еще!
— А больше нет! — в отчаянии ответила Сильви. — Мне очень стыдно, но я сразу же съела свой кекс. Жаль, что…
Окончания фразы я не расслышал, потому что мое сознание, к моему изумлению, переключилось на Леди МюриэлОрм — это она произносила слова Сильви — ее голосом и даже с тем же взглядом.
— Следуйте за мной! — были следующие слова, которые я услышал. Старик махнул рукой с изяществом, которое мало согласовывалось с его ветхим одеянием, и, двигаясь вдоль кустарника, вдруг начал уходить под землю. В другое время я не поверил бы своим глазам, но сейчас был слишком сильно заинтригован, чтобы размышлять. Когда кустарник кончился, мы увидели мраморные ступеньки, ведущие в темноту. Старик шел впереди, мы — следом.
Сначала было так темно, что я мог различить лишь силуэты детей, взявшихся за руки и движущихся за незримым Вергилием. Потом стало легче: в воздухе словно была разлита какая-то серебристая люминесценция. И вот сделалось светло, как днем.
Мы оказались в странном восьмиугольном помещении. В каждом углу стоял столб, задрапированный шелком. Одна из стен между столбами — шести или семи футов вышины — представляла собой импровизированную оранжерею. В другое время и, главное, в другом месте я, скорее всего, задался бы вопросом, могут ли все эти цветы и плоды совместно произрастать, но здесь никаких вопросов не возникло. Я прежде никогда не видел таких цветов и плодов и поэтому не знал, сочетаются они или нет. Каждая стена была украшена круглым витражом, и увенчивал всё сооружение купол, инкрустированный драгоценными камнями. Но самое удивительное: невозможно было понять, каким образом мы вошли: в зале не было ничего, хоть отдаленно напоминавшего дверь.
— Здесь мы в безопасности, дорогие мои! — сказал Старик. Он положил руку на плечо Сильви, наклонился и поцеловал ее. Она сначала отпрянула в испуге, но вдруг лицо ее прояснилось, и она радостно закричала:
— Это отец!
— Отец! Отец! — завопил Бруно.
И пока продолжались эти излияния семейных восторгов, я пытался сообразить, куда девались лохмотья нищего и когда он успел переодеться. Потому что теперь он был облачен в горностаевую королевскую мантию, украшенную бриллиантами и золотыми позументами, а на его голове была золотая корона.
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: 1) Вариант: Зачем ты гонишь бедняка? Конечно, это «мотив Гаруна аль-Рашида» и будущей метаморфозы «нищего». 2) Песня Безумного Садовника в переводе В. С. Лежневой. 3) Садовник — не такой уж сумасшедший. Он — последователь Ламетри. . |
____________________________________________________
***