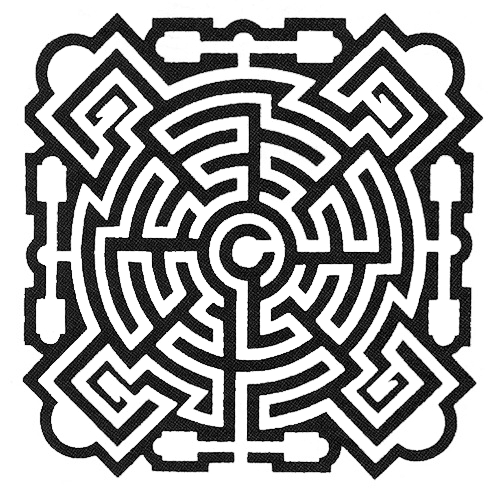Рубрика «Параллельные переводы Льюиса Кэрролла»
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ | след. >>>

Рис. Harry Furniss (1889).
ОРИГИНАЛ на английском (1889):
CHAPTER SEVENTEEN
TO THE RESCUE!
`IT isn’t bed-time!’ said a sleepy little voice. `Theowls hasn’t gone to bed, and I s’a’n’t go to seep wizout oo sings to me!’
`Oh, Bruno!’ cried Sylvie. `Don’t you know the owls haveonly just got up? But the frogs have gone to bed, ages ago.»
`Well, I aren’t a frog,’ said Bruno.
`What shall I sing?’ said Sylvie, skilfully avoiding theargument.
`Ask Mister Sir,’ Bruno lazily replied, clasping his handsbehind his curly head, and lying back on his fern-leaf, till it almostbent over with his weight. `This aren’t a comfable leaf, Sylvie. Find mea comfabler—please!’ he added, as an after-thought, in obedience to awarning finger held up by Sylvie. `I doosn’t like being feet-upwards!’
It was a pretty sight to see—the motherly way in whichthe fairy-child gathered up her little brother in her arms, and laid himon a stronger leaf. She gave it just a touch to set it rocking, and itwent on vigorously by itself, as if it contained some hidden machinery.It certainly wasn’t the wind, for the evening-breeze had quite died awayagain, and not a leaf was stirring over our heads.
`Why does that one leaf rock so, without the others?’I asked Sylvie. She only smiled sweetly and shook her head. `I don’t knowwhy,’ she said. `It always does, if it’s got a fairy-child on it. It hasto, you know.’
`And can people see the leaf rock, who ca’n’t see theFairy on it?’
`Why, of course!’ cried Sylvie. `A leaf’s a leaf, andeverybody can see it; but Bruno’s Bruno, and they ca’n’t see him, unlessthey’re eerie, like you.’
Then I understood how it was that one sometimes sees—goingthrough the woods in a still evening—one fern-leaf rocking steadily on,all by itself. Haven’t you ever seen that? Try if you can see the fairy-sleeperon it, next time; but don’t pick the leaf, whatever you do; let the littleone sleep on!
But all this time Bruno was getting sleepier and sleepier.`Sing, sing!’ he murmured fretfully. Sylvie looked to me for instructions.`What shall it be?’ she said.
`Could you sing him the nursery-song you once told meof?’ I suggested. `The one that had been put through the mind-mangle, youknow. «The little man that had a little gun», I think it was.’
`Why, that are one of the Professor’s songs!’ cried Bruno.`I likes the little man; and I likes the way they spinned him—like a teetle-totle-tum.’And he turned a loving look on the gentle old man who was sitting at theother side of his leaf-bed, and who instantly began to sing, accompanyinghimself on his Outlandish guitar, while the snail, on which he sat, wavedits horns in time to the music.
In stature the Manlet was dwarfish—
No burly big Blunderbore he:
And he wearily gazed on the crawfish
His Wifelet had dressed for his tea.
`Now reach me, sweet Atom, my gunlet,
And hurl the old shoelet for luck:
Let me hie to the bank of the runlet,
And shoot thee a Duck!’She has reached him his minikin gunlet:
She has hurled the old shoelet for luck:
She is busily baking a bunlet,
To welcome him home with his Duck.
On he speeds, never wasting a wordlet,
Though thoughtlets cling, closely as wax,
To the spot where the beautiful birdlet
So quietly quacks.Where the Lobsterlet lurks, and the Crablet
So slowly and sleepily crawls:
Where the Dolphin’s at home, and the Dablet
Pays long ceremonious calls:
Where the Grublet is sought by the Froglet:
Where the Frog is pursued by the Duck:
Where the Ducklet is chased by the Doglet—
So runs the world’s luck!He has loaded with bullet and powder:
His footfall is noiseless as air:
But the Voices grow louder and louder,
And bellow, and bluster, and blare.
They bristle before him and after,
They flutter above and below,
Shrill shriekings of lubberly laughter,
Weird wailings of woe!They echo without him, within him:
They thrill through his whiskers and beard:
Like a teetotum seeming to spin him,
With sneers never hitherto sneered.
`Avengement,’ they cry, `on our Foelet!
Let the Manikin weep for our wrongs!
Let us drench him, from toplet to toelet,
With Nursery-Songs!`He shall muse upon «Hey! Diddle! Diddle!»
On the Cow that surmounted the Moon:
He shall rave of the Cat and the Fiddle,
And the Dish that eloped with the Spoon:
And his soul shall be sad for the Spider,
When Miss Muffet was sipping her whey,
That so tenderly sat down beside her,
And scared her away!`The music of Midsummer-madness
Shall sting him with many a bite,
Till, in rapture of rollicking sadness,
He shall groan with a gloomy delight:
He shall swathe him, like mists of the morning,
In platitudes luscious and limp,
Such as deck, with a deathless adorning,
The Song of the Shrimp!`When the Ducklet’s dark doom is decided,
We will trundle him home in a trice:
And the banquet, so plainly provided,
Shall round into rose-buds and rice:
In a blaze of pragmatic invention
He shall wrestle with Fate, and shall reign:
But he has not a friend fit to mention,
So hit him again!’He has shot it, the delicate darling!
And the Voices have ceased from their strife:
Not a whisper of sneering or snarling,
As he carries it home to his wife:
Then, cheerily champing the bunlet
His spouse was so skilful to bake,
He hies him once more to the runlet,
To fetch her the Drake!
`He’s sound asleep now,’ said Sylvie, carefully tuckingin the edge of a violet-leaf, which she had been spreading over him asa sort of blanket: `good night!’
`Good night!’ I echoed.
`You may well say «good night»!’ laughed Lady Muriel,rising and shutting up the piano as she spoke. `When you’ve been nid—nid—noddingall the time I’ve been singing for your benefit! What was it all about,now?’ she demanded imperiously.
`Something about a duck?’ I hazarded. `Well, a bird ofsome kind?’ I corrected myself, perceiving at once that that guess waswrong, at any rate.
`Something about a bird of some kind!’ Lady Muriel repeated,with as much withering scorn as her sweet face was capable of conveying.`And that’s the way he speaks of Shelley’s Sky-Lark, is it? When the Poetparticularly says «Hail to thee, blithe spirit! Bird thou never wert!»‘
She led the way to the smoking-room, where, ignoring allthe usages of Society and all the instincts of Chivalry, the three Lordsof the Creation reposed at their ease in low rocking-chairs, and permittedthe one lady who was present to glide gracefully about among us, supplyingour wants in the form of cooling drinks, cigarettes, and lights. Nay, itwas only one of the three who had the chivalry to go beyond the common-place`thank you’, and to quote the Poet’s exquisite description of how Geraint,when waited on by Enid, was moved
`To stoop and kiss the tender little thumb
That crossed the platter as she laid it down’,
and to suit the action to the word—an audacious libertyfor which, I feel bound to report, he was not duly reprimanded.
As no topic of conversation seemed to occur to any one,and as we were, all four, on those delightful terms with one another (theonly terms, I think, on which any friendship, that deserves the name ofintimacy, can be maintained) which involve no sort of necessity for speakingfor mere speaking’s sake, we sat in silence for some minutes.
At length I broke the silence by asking `Is there anyfresh news from the harbour about the Fever?’
`None since this morning,’ the Earl said, looking verygrave. `But that was alarming enough. The Fever is spreading fast: theLondon doctor has taken fright and left the place, and the only one nowavailable isn’t a regular doctor at all: he is apothecary, and doctor,and dentist, and I don’t know what other trades, all in one. It’s a badoutlook for those poor fishermen—and a worse one for all the women andchildren.’
`How many are there of them altogether?’ Arthur asked.
`There were nearly one hundred, a week ago,’ said theEarl: `but there have been twenty or thirty deaths since then.’
`And what religious ministrations are there to be had?’
`There are three brave men down there,’ the Earl replied,his voice trembling with emotion, `gallant heroes as ever won the VictoriaCross! I am certain that no one of the three will ever leave the placemerely to save his own life. There’s the Curate: his wife is with him:they have no children. Then there’s the Roman Catholic Priest. And there’sthe Wesleyan Minister. They go amongst their own flocks mostly; but I’mtold that those who are dying like to have any of the three with them.How slight the barriers seem to be that part Christian from Christian,when one has to deal with the great facts of Life and the reality of Death!’
`So it must be, and so it should be—‘ Arthur was beginning,when the front-door bell rang, suddenly and violently.
We heard the front-door hastily opened, and voices outside:then a knock at the door of the smoking-room, and the old house-keeperappeared, looking a little scared.
`Two persons, my Lord, to speak with Dr. Forester.’
Arthur stepped outside at once, and we heard his cheery`Well, my men?’ but the answer was less audible, the only words I coulddistinctly catch being `ten since morning, and two more just—‘
`But there is a doctor there?’ we heard Arthur say: anda deep voice, that we had not heard before, replied `Dead, Sir. Died threehours ago.’
Lady Muriel shuddered, and hid her face in her hands:but at this moment the front-door was quietly closed, and we heard no more.
For a few minutes we sat quite silent: then the Earl leftthe room, and soon returned to tell us that Arthur had gone away with thetwo fishermen, leaving word that he would be back in about an hour. And,true enough, at the end of that interval—during which very little wassaid, none of us seeming to have the heart to talk—the front-door oncemore creaked on its rusty hinges, and a step was heard in the passage,hardly to be recognized as Arthur’s, so slow and uncertain was it, likea blind man feeling his way.
He came in, and stood before Lady Muriel, resting onehand heavily on the table, and with a strange look in his eyes, as if hewere walking in his sleep.
`Muriel—my love—‘ he paused, and his lips quivered:but after a minute he went on more steadily. `Muriel—my darling—they—wantme—down in the harbour.’
`Must you go?’ she pleaded, rising and laying her handson his shoulders, and looking up into his face with her great eyes brimmingover with tears. `Must you go, Arthur? It may mean—death!’
He met her gaze without flinching. `It does mean death,’he said, in a husky whisper: `but—darling—I am called. And even my lifeitself—‘ His voice failed him, and he said no more.
For a minute she stood quite silent, looking upwards witha helpless gaze, as if even prayer were now useless, while her featuresworked and quivered with the great agony she was enduring. Then a suddeninspiration seemed to come upon her and light up her face with a strangesweet smile. `Your life?’ she repeated. `It is not yours to give!’
Arthur had recovered himself by this time, and could replyquite firmly, `That is true,’ he said. `It is not mine to give. It is yours,now, my—wife that is to be! And you—do you forbid me to go? Will younot spare me, my own beloved one?’
Still clinging to him, she laid her head softly on hisbreast. She had never done such a thing in my presence before, and I knewhow deeply she must be moved. `I will spare you’, she said, calmly andquietly, `to God.’
`And to God’s poor,’ he whispered.
`And to God’s poor,’ she added. `When must it be, sweetlove?’
`To-morrow morning,’ he replied. `And I have much to dobefore then.’
And then he told us how he had spent his hour of absence.He had been to the Vicarage, and had arranged for the wedding to take placeat eight the next morning (there was no legal obstacle, as he had, sometime before this, obtained a Special Licence) in the little church we knewso well. `My old friend here,’ indicating me, `will act as «Best Man»,I know: your father will be there to give you away: and—and—you willdispense with bride’s-maids, my darling?’
She nodded: no words came.
`And then I can go with a willing heart—to do God’s work—knowingthat we are one—and that we are together in spirit, though not in bodilypresence—and are most of all together when we pray! Our prayers will goup together—‘
`Yes, yes!’ sobbed Lady Muriel. `But you must not staylonger now, my darling! Go home and take some rest. You will need all yourstrength to-morrow—‘
`Well, I will go,’ said Arthur. `We will be here in goodtime to-morrow. Good night, my own own darling!’
I followed his example, and we two left the house together.As we walked back to our lodgings, Arthur sighed deeply once or twice,and seemed about to speak—but no words came, till we had entered the house,and had lit our candles, and were at our bedroom-doors. Then Arthur said`Good night, old fellow! God bless you!’
`God bless you!’ I echoed from the very depths of my heart.
We were back again at the Hall by eight in the morning,and found Lady Muriel and the Earl, and the old Vicar, waiting for us.It was a strangely sad and silent party that walked up to the little churchand back; and I could not help feeling that it was much more like a funeralthan a wedding: to Lady Muriel it was in fact, a funeral rather than awedding, so heavily did the presentiment weigh upon her (as she told usafterwards) that her newly-won husband was going forth to his death.
Then we had breakfast; and, all too soon, the vehiclewas at the door, which was to convey Arthur, first to his lodgings, topick up the things he was taking with him, and then as far towards thedeath-stricken hamlet as it was considered safe to go. One or two of thefishermen were to meet him on the road, to carry his things the rest ofthe way.
`And are you quite sure you are taking all that you willneed?’ Lady Muriel asked.
`All that I shall need as a doctor, certainly. And myown personal needs are few: I shall not even take any of my own wardrobe—thereis a fisherman’s suit, ready-made, that is waiting for me at my lodgings.I shall only take my watch, and a few books, and—stay—there is one bookI should like to add, a pocket-Testament—to use at the bedsides of thesick and dying—‘
`Take mine!’ said Lady Muriel: and she ran upstairs tofetch it. `It has nothing written in it but «Muriel»,’ she said as shereturned with it: `shall I inscribe—‘
`No, my own one,’ said Arthur, taking it from her. `Whatcould you inscribe better than that? Could any human name mark it moreclearly as my own individual property? Are you not mine? Are you not,'(with all the old playfulness of manner) `as Bruno would say, «my verymine»?’
He bade a long and loving adieu to the Earl and to me,and left the room, accompanied only by his wife, who was bearing up bravely,and was—outwardly, at least—less overcome than her old father. We waitedin the room a minute or two, till the sounds of wheels had told us thatArthur had driven away; and even then we waited still, for the step ofLady Muriel, going upstairs to her room, to die away in the distance. Herstep, usually so light and joyous, now sounded slow and weary, like onewho plods on under a load of hopeless misery; and I felt almost as hopeless,and almost as wretched as she. `Are we four destined ever to meet again,on this side the grave?’ I asked myself, as I walked to my home. And thetolling of a distant bell seemed to answer me, `No! No, No!’.
.
____________________________________________________
Глава семнадцатая
ПОМОГИТЕ!
— Нет, спать еще рано! — отозвался сонный детский голосок. — Вон и совы и не думают ложиться спать, а я не хочу спать, пока они не споют мне песенку!
— Ах, Бруно! — воскликнула Сильвия. — Разве ты не знаешь, что совы по ночам вообще не спят? Зато лягушки давным-давно улеглись на подушки!
— Но ведь я же не лягушка! — возразил Бруно.
— А хочешь, я тебе спою? Вот только что же тебе спеть? — предложила Сильвия, не желая попусту препираться с братиком.
— Спроси господина сэра, — отозвался малыш, обняв ее за шею и укладываясь на огромный лист папоротника, прогнувшийся под его тяжестью. — Знаешь, Сильвия, этот листок ужасно неудобный! Найди мне, пожалуйста, какой-нибудь другой! — добавил он после некоторого раздумья, увидев, что Сильвия предостерегающе подняла пальчик. — Мне вовсе не нравится спать вниз головой!
О, это было весьма трогательное зрелище — видеть, как очаровательная девочка берет братика на руки и укладывает его на более упругий листок. Она едва коснулась одного листка — и он тотчас закачался, словно ему помогал в этом некий скрытый механизм. Ветра не было, и даже легкий вечерний ветерок давно утих, так что листья у нас над головами словно оцепенели.
— Ты не знаешь, почему этот листок так дрожит, тогда как другие спят? — обратился я к девочке.
В ответ она только улыбнулась и покачала головой.
— Нет, не знаю, — проговорила она. — Но он всегда покачивается, стоит только маленькой фее улечься на него. А сейчас именно такой случай…
— А люди, которые не видят фей, могут видеть, как он качается?
— Да, разумеется! — воскликнула Сильвия. — Листок и есть листок; его могут видеть все кто угодно, а Бруно есть Бруно, и его видеть невозможно, пока в человеке не появится феерическое настроение — ну, такое, как у вас.
Теперь мне стало понятно, почему, оказавшись в лесу, мы иной раз видим, как один из листьев папоротника покачивается словно сам собой. Готов поклясться, что и вы тоже видели это. В следующий раз попробуйте посмотреть, не спит ли на нем фея. Но только, прошу вас, не рвите такой листок: дайте крошке выспаться!
Тем временем Бруно уже дремал.
— Спой что-нибудь! — пробормотал он, обращаясь к сестренке. Сильвия вопросительно поглядела на меня.
— Что же мне спеть? — спросила она.
— Не хочешь ли спеть ему колыбельную, которую ты мне когда-то пересказывала? — предложил я. — Ту самую, где происходят всякие забавные вещи. «У маленького человечка было крошечное ружье». Помнишь?
— Да это же одна из песенок Профессора! — воскликнул Бруно. — Мне ужасно нравится этот человечек, а еще — как они кружились: совсем как волчок. — С этими словами он ласково взглянул на пожилого джентльмена, сидевшего на другой стороне того же самого листка папоротника. И тот тотчас запел, подыгрывая себе на чужестранской гитаре, а улитка, на которой он восседал, принялась покачивать рожками в такт мелодии.
Он ростом вышел негусто:
Просто Карлик — и все дела.
Он грустно взглянул на лангуста,
Что к чаю Жена принесла.
«Подай мне ружьишко и пульки
И подковку на счастье дай —
Я Уточку крошке-женульке
Подстрелю, так и знай!»Она ружьишко достала,
Подковку сняла для него
И булочку обещала
Испечь к возвращенью его.
И он, понапрасну словечки
Не тратя, побрел невпопад
На берег, где птички у речки
Так протяжно кричат;Где Крабик ползет, и Омарчик
Клешней загребает пески,
Где Дельфинчики и Кальмарчик
Ныряют наперегонки;
Где мчит Жужелица, как циркачка,
Где прячется Жаба на дно,
Где Уток гоняет Собачка —
Там добычи полно!И он снял ружьишко и вышел
На берег тихо, как сон —
И вдруг Голоса услышал
Отовсюду, со всех сторон.
И пели они, и рыдали,
И смеялись за пятерых,
И стоны тоски и печали
Слышались в них.Они вдалеке разносились,
Скользя по траве и воде,
И, словно волчок, кружились
В усах его и бороде.
«Отмщенье! Мы жаждем мести!
Пусть Карлик послушает нас
И с нами оплачет вместе
Наш печальный рассказ!

Илл. Harry Furniss (1889).
Пускай он грезит спросонок,
Как Бычок на Луну мычит,
На Скрипке играет Котенок
И Ложка в Тарелке бренчит.
Пускай почтит грустным вздохом
Паучка, что в стакан забежал
И глупую мисс Неумеху
До смерти перепугал!Пускай безумие Лета
Побольней ужалит его,
И сердце, восторгом задето,
Задрожит в груди у него.
Пускай его наважденье
В объятья свои заключит,
И громко, до самозабвенья,
Песнь Креветок звучит!

Илл. Harry Furniss (1889).
Такова уж Уткина доля:
Утенок молчит — ни бум-бум.
Пускай его на застолье
Украсят рис и изюм.
На вертеле над камином
С Судьбой он поспорит пускай!
Он не был нам другом старинным:
Стреляй же, стреляй!»Он выстрелил — и замолчали
Тотчас Голоса над рекой.
И он, не зная печали,
Добычу отнес домой.
И, слопав все, что Жена в печке
Успела испечь и сварить,
Он снова отправился к речке —
Селезня ей подстрелить!

Илл. Harry Furniss (1889).
— Кажется, он уснул, — прошептала Сильвия, осторожно поправляя краешек листка фиалки, которым она укрыла братика наподобие одеяла. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — подхватил я.
— И впрямь, пора пожелать спокойной ночи! — засмеялась леди Мюриэл, опуская крышку фортепьяно. — Ведь все время, пока я пела, вы преспокойно дремали. Вы хоть помните, о чем я пела, а? — укоризненно спросила она.
— Кажется, что-то такое об утке? — предположил я. — Или о какой-то там птичке, верно? — поправился я, заметив, что, мягко говоря, был не совсем точен.
— О какой-то там птичке? — повторила леди Мюриэл с такой иронией, на которую только была способна. — Нет, вы только послушайте, как он отзывается о «Жаворонке» Шелли! Помните, поэт говорит: «Дух, презревший небыль! Птицам не понять…»
С этими словами она направилась в курительную комнату, где, презрев правила светского тона и кодексы рыцарской чести, трое Высокочтимых Лордов мирно уселись на низеньких стульчиках, милостиво позволив леди присутствовать среди нас, а заодно и подавать нам прохладительные напитки, сигареты и спички. Правда, один из них в своем рыцарстве пошел чуть дальше тривиального «благодарю», процитировав строки нашего поэта о том, как Герант, принимая из рук Эниды блюдо, дерзнул
Припасть губами к пальчику руки,
Поставившей на стол такое блюдо, —
и тем самым как бы воспроизвел сценку из поэмы — милая вольность, за которую он, надо признаться, не получил ни пощечины, ни даже выговора.

Илл. Harry Furniss (1889).
Когда все темы для беседы были исчерпаны, мы вчетвером, будучи на короткой ноге друг с другом (а именно такова, на мой взгляд, дружба, претендующая на титул интимной), не сочли нужным разговаривать просто ради разговора и умолкли. Наступила непродолжительная пауза.
Наконец я нарушил молчание, спросив:
— Нет ли каких-нибудь свежих новостей о лихорадке?
— С самого утра — никаких, — спокойно отвечал Граф. — Но утренние вести были весьма тревожны: лихорадка распространяется очень быстро. Лондонское светило медицины поспешно собралось и уехало, а единственный медик, еще остающийся здесь, — это даже не врач, а одновременно и аптекарь, и дантист, и терапевт, и… короче, мастер на все руки. Надо признать, этих бедных рыбаков, не говоря уж об их женах и детях, ждет незавидная участь.
— А сколько их живет в здешних местах? — спросил Артур.
— Неделю назад их было более сотни, — отвечал Граф. — Но с тех пор наверняка умерло человек двадцать, а то все тридцать.
— А что же представители церкви?
— О, среди них выделяются трое храбрецов, — заметил Граф, и его голос слегка дрожал от волнения, — трое настоящих героев, заслуживающих Крест Виктории! Я просто уверен, что они никогда не покинут эти места, чтобы спасти собственную жизнь. Это прежде всего викарий; жена осталась вместе с ним, а детей у них нет. Затем — римско-католический пастор. И, наконец, уэслейский священник. Они остались здесь на свой страх и риск, но говорю вам, что умирающие то и дело приглашают к себе одного из этих троих. Боже, какими хрупкими оказались перегородки, отделяющие одну часть христиан от другой, перед лицом великой драмы Жизни и неизбежностью Смерти!
— Иначе и быть не могло… — начал было Артур, но в этот момент внизу неожиданно зазвонил колокольчик у двери.
Мы услышали, как входная дверь распахнулась; послушались возбужденные голоса. Затем в дверь курительной комнаты резко постучали, и на пороге появилась старая экономка. Вид у нее был растерянный.
— Ваша светлость, двое мужчин желали бы поговорить с доктором Форестером…
Артур тотчас вышел, и мы услышали его взволнованный голос: «Ну что, как дела?» Ответ разобрать было почти невозможно, и единственными словами, которые мы все же поняли, были «десятеро — утром и еще двое — только что…»
— А доктор там? — услышали мы реплику Артура. Хриплый незнакомый голос ответил: «Он умер, сэр. Скончался три часа тому назад».
Леди Мюриэл вздрогнула и закрыла лицо руками; в этот момент дверь тихонько закрылась, и мы не слышали больше ни слова.
Несколько минут мы просидели молча; затем Граф вышел из комнаты и вскоре вернулся, чтобы сообщить нам, что Артур уехал вместе с рыбаками, пообещав вернуться примерно через час. Как ни странно, ровно через час, в течение которого мы почти не разговаривали друг с другом, потому что беседа явно не клеилась, входная дверь грустно скрипнула на ржавых петлях, затем протяжно заскрипела лестница… Право, Артура было трудно узнать: настолько медленно и устало он поднимался, совсем как слепец, движущийся на ощупь.
Войдя, он подошел к леди Мюриэл и тяжело оперся одной рукой о столик. В глазах его мелькнуло странное выражение, точно он только что проснулся после тяжелого сна.
— Мюриэл, любовь моя… — начал он и остановился; губы его дрожали, но через несколько мгновений он взял себя в руки. — Мюриэл… дорогая… Они хотят, чтобы я поехал с ними… в порт…
— И что же, ты должен идти? — воскликнула она, вставая и кладя руку ему на плечи. Затем она заглянула ему в лицо своими огромными лучистыми глазами, в которых блеснули слезы. — Артур, неужели ты должен идти? Ведь это может означать смерть!
Он грустно поглядел ей в глаза.
— Это наверняка означает смерть, — почти шепотом отвечал он. — Но… видишь ли, дорогая… меня зовут. И даже если моя жизнь… — Тут его голос опять задрожал, и Артур умолк.
Леди Мюриэл буквально оцепенела. Она простояла молча несколько минут, запрокинув голову, словно вознося какую-то тайную молитву. В ней явно происходила некая мучительная борьба. Затем ее охватило какое-то болезненное вдохновение, и на лице ее заиграла слабая улыбка.
— Твоя жизнь? — повторила она. — Но она же теперь не только твоя!
Артур уже немного пришел в себя, и ему хватило сил ответить:
— Да, ты совершенно права. Она больше не моя. Она — твоя, жена моя! Что же — ты запрещаешь мне пойти к ним? Ты не отпускаешь меня, любовь моя?
Леди Мюриэл обняла его и прижалась к его груди. Прежде она никогда не позволяла себе ничего подобного в моем присутствии. Но теперь я понимал, как она страдает и волнуется.

Илл. Harry Furniss (1889).
— Вручаю тебя, — медленно, едва слышно произнесла она, — Богу.
— И Божьему милосердию, — шепотом подсказал он.
— И Божьему милосердию, — повторила она. — И когда же ты должен уйти, любимый?
— Завтра утром, — отозвался он. — И мне еще надо многое успеть.
Присев к столу, он коротко рассказал, как он провел этот час. Он съездил в викариат и договорился со священником, что венчание состоится завтра в восемь утра (никаких формальных препятствий к этому не было, поскольку незадолго до этого он получил Особое разрешение) в маленькой церкви, которую мы все так хорошо знаем. — Мой друг (продолжал он, указывая на меня), надеюсь, будет моим свидетелем. Тебя проводит твой отец… Надеюсь, ты обойдешься без подружек, любовь моя?
Леди кивнула, не проронив ни слова.
— И тогда я смогу уехать со спокойным сердцем — уехать, чтобы послужить Богу — зная, что мы с тобой одно, что мы едины — в духе, если не телом, и сможем слиться воедино в общей молитве! Да, да, наши молитвы соединят нас…
— О, конечно! — вздохнула леди Мюриэл. — Тогда не теряй времени, дорогой! Отправляйся домой и хорошенько отдохни. Завтра тебе предстоит трудный день…
— Так и сделаю, — кивнул Артур. — Нам надо завтра все успеть. Спокойной ночи, любовь моя!
Я последовал за ним, и мы вместе покинули гостеприимный дом Графа. На обратном пути Артур несколько раз глубоко вздохнул и хотел было что-то сказать, но так и не проронил ни слова до самого дома. Войдя в дом, мы зажгли свечи и собрались разойтись по своим спальням. И тогда Артур сказал:
— Доброй ночи, старина! Храни тебя Бог!
— И тебя тоже! Сохрани тебя Господь! — искренне отвечал я.
На следующий день мы прибыли в дом Графа к восьми утра. Леди Мюриэл, Граф и престарелый викарий уже поджидали нас. Затем мы все вместе отправились в маленькую церковь. Процессия получилась не слишком веселая, и я никак не мог отделаться от чувства, что она скорее напоминает похороны, чем браковенчание. Невеста была слишком удручена (как она сама призналась впоследствии) тем, что ее любимый муж сразу же после венчания отправляется на верную смерть.
Мы наскоро позавтракали, и вскоре у дверей уже появился экипаж, который должен был доставить Артура со всеми его медицинскими снадобьями в ту самую деревушку, пораженную смертельным недугом, — точнее, не в саму деревушку, а в некое «безопасное» местечко поблизости от нее. На дороге Артура должны были встречать двое рыбаков, которым предстояло отнести его вещи в деревню.
— Ты уверен, что взял все необходимое и ничего не забыл? — напомнила леди Мюриэл.
— Не беспокойся: я захватил все, что мне потребуется как врачу. Мои личные потребности весьма скромны; я не повезу туда свой гардероб, поскольку там мне дадут обычную рыбачью одежду. Поэтому я взял только часы да несколько книг, да еще — самое главное — Новый Завет карманного формата, чтобы читать больным и умирающим…
— Возьми мой! — воскликнула леди Мюриэл; она вскочила и поспешно поднялась наверх. — Правда, на нем нет никаких надписей, кроме «Мюриэл», — заметила она, возвращаясь с книгой в руках. — Если хочешь, я напишу что-нибудь…
— Да нет, зачем, — отвечал Артур, бережно принимая книгу из ее рук. — Да и что можно написать прекрасней этого? Разве имя человека не передает всю полноту его личности? Разве ты — не моя? — Тут к нему неожиданно вернулся прежний шутливый тон. — Или, как говорит Бруно, «не вся моя»?
И он, окончательно и по-дружески распрощавшись со мной и Графом, вышел из комнаты в сопровождении жены, которая держалась просто молодцом и — по крайней мере внешне — казалась не такой подавленной, как ее престарелый отец. Мы посидели еще несколько минут, пока стук колес не поведал нам, что Артур уехал. Затем мы услышали шаги леди Мюриэл, поднимавшейся по лестнице. Шаги эти, обычно такие легкие и быстрые, раздавались теперь с какой-то медлительной тяжестью, словно на ее плечи легла неподъемная ноша горя. Я тоже был подавлен не меньше ее. «Суждено ли нам — всем четверым — еще хоть когда-нибудь увидеться по эту сторону могилы?» — спрашивал я себя на пути домой. И далекий звон колокола отвечал мне: «Нет! Нет! Нет!».
.
____________________________________________________
Перевод Андрея Москотельникова (2009):
ГЛАВА XVII
На помощь!
— Но ещё не пора в кровать! — произнёс сонный детский голосок. — Совы ещё не легли спать, и я не лягу, пока ты мне чего-нибудь не споёшь!
— Бруно! — воскликнула Сильвия. — Разве ты не знаешь, что совы только что проснулись? А вот лягушки — те давным-давно уже все в постели.
— Но я же не лягушка, — возразил Бруно.
— А что тебе спеть? — спросила Сильвия, как обычно избегая спора.
— Спроси господина сударя, — лениво ответил Бруно, заложив руки за свою кудрявую головку и откинувшись на спину на листе папоротника, который чуть не до земли склонился под его весом. — Неудобный этот лист, Сильвия. Найди мне удобнее… ну пожалуйста, — поспешно добавил он волшебное слово, когда Сильвия выжидательно подняла палец. — Ведь не могу же я спать кверху ногами!
Маленькая фея совсем по-матерински подняла на руки своего малютку-братца и уложила его на более крепкий лист папоротника. Она разок коснулась листа, чтобы качнуть его, и дальше он принялся как заведённый раскачиваться сам по себе, словно у него внутри скрывался какой-то механизм. Ветер тут явно был ни при чём — он уже прекратил свои вечерние дуновения, и ни один листок не вздрагивал над нашими головами.
— А почему этот лист качается, когда соседние даже не шелохнутся? — спросил я Сильвию. Но она только мило улыбнулась и покачала головой.
— Я сама не знаю, почему. Они всегда качаются, когда на них отдыхет эльф или фея. Они, наверно, так устроены.
— А люди могут видеть, как качается лист папоротника, хотя бы они не видели на нём эльфа?
— Конечно, могут! — удивилась Сильвия моему вопросу. — Лист — это лист, и его любой может видеть, но Бруно — это Бруно, и его нельзя увидеть, если только вами не овладело наваждение, как сейчас.
Теперь я понимаю, отчего получается, что иногда, пробираясь по лесу тихим вечером, можно увидеть лист папоротника, равномерно качающийся вверх-вниз сам по себе. Вы ведь тоже такое видели, правда? В следующий раз попробуйте рассмотреть на нём спящего крошку-эльфа или спящую фею, только не срывайте этого листа, как бы вам ни хотелось, пусть малютка спит!
И пока я так расспрашивал Сильвию, глаза Бруно всё сильнее слипались.
— Ну спой мне, спой! — капризно бормотал он.
Сильвия вопросительно взглянула на меня.
— Так что же мне спеть? — спросила она.
— Ты бы могла спеть ту детскую песенку, о которой вы мне однажды рассказывали, — предложил я. — Ту самую, которую пропустили через каток, помнишь? Кажется, это была песенка «Жил-был маленький старик с маленьким ружьишком».
— А, это одна из песенок нашего Профессора! — встрепенулся Бруно. — Мне нравится этот маленький песенный старик, и как здорово они ему мурашек подпустили! — И мальчик обратил свой влюблённый взгляд на другого старичка, возникшего по другую сторону листа-кроватки. И тот сразу же принялся петь, подыгрывая себе на Волшебной гитаре (я видел такие в Запределье), в то время как улитка, на которой он восседал, помахивала в такт музыке своими рожками.
«Росточком был мал старичонка:
Короткий и щуплый на вид.
Раз жёнушка щиплет курчонка,
А он ей в сердцах говорит:
“Подай-ка мне, жёнка, ружьишко,
Подкинь-ка сапожки, жена.
Пойду пострелять у ручьишка —
Мне Утка нужна!”Она притащила ружьишко,
Сапожки сама поднесла,
Поставила пышки в печишку,
Горчичку в горшке натолкла.
Иной не имея мыслишки,
Минутки не тратя зазря,
Бежал старичок без одышки
На крики “кря-кря!”Где рыщут Рачишки, где Мошки
Мелькают, снуют, мельтешат,
Где замерли Цапли на ножке —
И цап! из воды Лягушат,
Где словно зелёные Шишки
Таращатся в тине и ждут
(В засаде лежат Лягушишки),
Там тишь и уют.Готовит он порох и пульки,
Крадётся — не слышны шажки;
Как вдруг раздаются буль-бульки,
Плюх-плюшки, пыхтяшки, пшички —
Стрекочущих звуков стремнина,
Возня и вверху и внизу,
Ликующих воплей лавина
И звонкое “З-зу!”Кричат и Рыбёшки и Пташки:
“Сейчас он почувствует, плут,
Как будто по телу Мурашки
С макушки до пят побегут,
Как будто он скушал полыни,
Как будто промок под дождём,
Коль рифмы Мамаши Гусыни
Ему пропоём!Пусть помнит — Улиткины рожки
Портняжек в испуг привели:
Едва унесли они ножки,
Завидя те рожки вдали.
Про Тётушку Трот и про Кошку
Споём, и тогда, может быть,
Наш недруг смутится немножко,
Умерит он прыть!Заслышав запевов заумье
Он радостно ручкой взмахнёт,
Застонет в застывшем раздумье,
В потоке печали вздохнёт.
Он вечной виной распалится,
Жужжащим жучком воспарит,
Туманом во тьме растворится,
Скребком заскрипит!Суровую птичью судьбину
Осилим, друзья — навались!
Долой из диеты дичину,
Да здравствуют розы и рис!
Пускай незавидные блюда —
Привыкнет, смирится с судьбой;
Скорее пришельца отсюда
Гоните домой!”По птичке пальнуло ружьишко —
И стихла вокруг трескотня.
Он Уточку хвать — и в домишко,
Где жёнка ждала у огня.
Попробовав радостно пышку,
Что жёнка спекла второпях,
Он ринулся снова к ручьишку
И в Селезня — бах!»[1]
— Ну вот, угомонился, — сказала Сильвия, осторожно подтыкая край лепестка фиалки, которым она укрыла спящего на манер одеяла. — Спокойной ночи!
— Спокойной ночи! — эхом отозвался я.
— И впрямь давно пора была пожелать вам спокойной ночи! — рассмеялась леди Мюриел, встав и закрывая крышку клавиатуры. — Для него тут поют, а он клюёт в это время носом! Так о чём я пела, ну-ка отвечайте! — потребовала она.
— Что-то про утку? — рискнул я наугад. — Ну, про птицу какую-то, — поправился я, тот час же поняв по её лицу, что первое предположение было не совсем в точку.
— Про птицу какую-то! — передразнила леди Мюриел с самым испепеляющим взглядом, который только удался её милым глазкам. — Так-то он отзывается о «Жаворонке» Шелли! И это при том, что поэт сам говорит: «Здравствуй, дух поющий! Нет, не птица ты!»
Она пригласила нас в курительную, где вопреки всем обычаям, принятым в Обществе, и всем инстинктам Рыцарства три Венца Природы вольготно развалились в креслах-качалках, позволяя единственной оставшейся у нас даме, грациозно скользившей меж кресел, удовлетворять наши потребности в охлаждающих напитках, сигаретах и огне. Нет, один из троих всё же имел достаточно рыцарства, чтобы не ограничиться банальными «благодарю вас», а сверх того процитировать прекрасные строки Поэта, повествующие о том, как Герейнт, которому прислуживала Энида, невольно наклонил голову и
«Губами тронул нежный ноготок
На скатерти промедлившей руки»,[2] —
да к тому же сопроводить слова действием (должен заметить, что за эту дерзкую вольность не последовало надлежащего выговора).
Так как никому не удавалось изобрести какую-нибудь новую тему для беседы, и поскольку все мы четверо находились в тех восхитительных отношениях друг с другом (именно таких, я думаю, отношениях, которые только и могут устанавливаться в дружбе, заслуживающей звания интимной), при которых совершенно нет нужды в поддержании разговора ради самого разговора, — мы несколько минут сидели в полной тишине.
Наконец я нарушил молчание.
— Есть какие-нибудь новости об этой лихорадке в гавани?
— С утра новостей не поступало, — ответил граф, сразу же посерьёзнев. — Но положение там тревожное. Лихорадка быстро распространяется; лондонский врач не на шутку перепугался и сбежал из посёлка, а единственный имеющийся там врач вовсе не квалифицированный специалист — он и аптекарь, и доктор, и дантист, и ещё не знаю кто в одном лице. Прямо жалко становится этих несчастных рыбаков — а их жёнам и детям приходится ещё хуже.
— Сколько их там всего проживает? — спросил Артур.
— Неделю назад ещё было около сотни, — сказал граф, — но с тех пор двадцать или тридцать человек умерло.
— Получают ли они хотя бы последнее напутствие?
— Есть там трое смельчаков, — отвечал граф, и его голос задрожал от чувств. — Вот это доблестные герои, заслуживающие Креста Виктории! Уверен, что они-то ни за что не покинут городка ради спасения собственной жизни. Это помощник приходского священника и с ним его жена; детей у них нет. Потом ещё римско-католический священник. И ещё священник-методист. Каждый трудится в основном среди своей паствы, но мне передавали, что умирающим не важно, кто из этих троих будет с ними в последний час. Как же тонки, оказывается, барьеры, что отделяют одного Христианина от другого, когда человек сталкивается с решающими событиями Жизни и с неотвратимостью Смерти!
— Так и должно быть, и так будет… — начал было Артур, когда прозвенел звонок у входной двери — внезапно и резко.
Мы услышали, как входная дверь с поспешностью была кем-то распахнута и снаружи послышались голоса; затем в дверь курительной постучали, и к нам заглянула графская экономка. У неё был испуганный вид.
— Там двое, милорд, хотят поговорить с доктором Форестером.
Артур сразу же вышел из комнаты, и мы услыхали его весёлое «Ну что, друзья мои?», только ответ был не столь звучный, и я смог различить лишь слова: «Десятеро утром, и только что ещё двое…» — «Но есть же там врач?» — снова раздался голос Артура, и тут новый голос ответил ему глубоким басом: «Умер, сударь. Умер три часа назад».
Леди Мюриел вздрогнула и спрятала лицо в ладони, но в этот миг входную дверь, очевидно, полностью прикрыли, и мы больше ничего не услышали.
Несколько минут мы сидели не говоря ни слова, затем граф вышел из комнаты, но вскоре вернулся, чтобы сообщить нам, что Артур отбыл с двумя рыбаками, попросив передать нам, что будет через час. И точно, по прошествии этого срока, в течение которого мы почти не разговаривали, входная дверь вновь заскрипела на несмазанных петлях, и в коридоре послышались шаги, по которым с большим трудом можно было узнать Артурову походку, такими они были замедленными и нетвёрдыми — словно слепой нащупывал дорогу.
Он вошёл и стал перед леди Мюриел, тяжело опершись одной рукой о стол и со странным взглядом глаз, будто не осознавал, где он.
— Мюриел, любовь моя… — Речь его прервалась, а губы задрожали, но спустя минуту он взял себя в руки. — Мюриел, дорогая моя… они… им нужно, чтобы я отправился в посёлок.
— А ты должен? — спросила она, вставая и кладя ему руки на плечи. Широко раскрытыми глазами, полными слёз, она взглянула ему в лицо. — Должен ли ты, Артур? Ведь это может значить смерть!
Он встретил её взгляд и не отвёл свой.
— Это и означает смерть, — промолвил он хриплым шёпотом. — Но, милая моя, я ведь призван. И даже сама моя жизнь… — Голос изменил ему, и он не закончил.
С минуту леди Мюриел стояла, ничего не говоря, лишь беспомощно глядя на него снизу вверх, как если бы любая мольба была теперь бесполезна, а её черты двигались, искажаемые душевной мукой. Затем на неё, вероятно, снизошло внезапное воодушевление, которое осветило ей лицо странной полуулыбкой.
— Твоя жизнь? — переспросила она. — Не настолько твоя теперь, чтобы ты отдавал её.
К этому времени Артур овладел собой и смог ответить вполне твёрдо.
— Это правда… Не настолько моя, чтобы я отдавал её… Это и твоя жизнь, теперь, жизнь моей… жены суженой! А ты… ты запрещаешь мне идти туда? И не поделишься мной, любимая?
Не отрываясь от него, она медленно склонила голову ему на грудь. Раньше она никогда так не поступала в моём присутствии, и я понял, как глубоко она взволнована.
— Я поделюсь тобой, — тихо и спокойно сказала она, — с Богом.
— И с Божьим людом, — прошептал он.
— И с Божьим людом, — повторила она. — Когда ты должен идти, любовь моя?
— Завтра утром, — ответил он. — И мне ещё многое нужно сделать.
И он рассказал нам, как провёл этот час, пока отсутствовал. Артур посетил викария и совершил приготовления к свадьбе, назначенной на восемь утра (правового препятствия к ней не было, так как он заблаговременно получил лицензию[3]) в маленькой церквушке, хорошо всем нам известной. «Мой друг, присутствующий здесь, — так он обозначил меня, — не откажется, я знаю, быть моим шафером; твой отец поедет с нами, чтобы забрать тебя домой, и… и… ты ведь обойдёшься без подружки невесты, милая?»
Она только молча кивнула.
— И тогда я смогу со спокойной душой отправиться… на служение Богу… зная, что мы — одно, и что мы соединились в духе, хоть и не телесно пока что… И что, молясь, мы всегда будем вместе! Наши молитвы вместе будут возноситься…
— Да, да! — сквозь слёзы бормотала леди Мюриел. — Но ты не должен теперь задерживаться, мой милый! Ступай домой и отдохни. Завтра тебе понадобится вся твоя сила…
— Хорошо, я пойду, — сказал Артур. — Завтра, в назначенный час, мы вернёмся. Доброй ночи, радость моя!
Я тоже простился, и мы с Артуром покинули дом графа. Пока мы шли домой, Артур раз или два глубоко вздохнул и, казалось, собирался заговорить, но слова не шли до тех пор, пока мы не оказались дома, не зажгли свечей и не приблизились к дверям наших спален. Только тогда Артур сказал:
— Доброй ночи, дружище! Благослови тебя Бог!
— Благослови тебя Бог! — словно эхо отозвалось из самой глубины моей души.
К восьми утра мы снова были в Усадьбе, где нашли леди Мюриел и графа, а также пожилого викария, ожидающих нас. Процессия, направляющаяся к церквушке, была печальной и молчаливой; я не мог отделаться от мысли, что церемония больше походит на похороны, чем на бракосочетание, а для леди Мюриел это и в самом деле были похороны, какая уж там свадьба! На неё тяжким грузом навалилось предчувствие (как она говорила нам впоследствии), что её новоприобретённый муж уходит навстречу смерти.
Затем был завтрак; экипаж подали к дверям без промедления — ему предстояло вначале отвезти Артура к себе, чтобы он забрал вещи, которые могли ему понадобиться, а потом настолько глубоко проникнуть в пораженную смертью область, насколько будет безопасно для возницы. Там, на дороге, Артура должны были встретить один или два рыбака, чтобы понести остаток пути его вещи.
— Ты уверен, что тебе ничего больше не нужно? — спросила леди Мюриел.
— Ничего, что мне понадобится как врачу, — да, уверен. А самому мне нужно очень немного — я даже не взял ничего из гардероба, дома наготове только рыбацкий костюм. Захвачу ещё часы да несколько книг и… Подождите, я хотел бы к ним добавить ещё одну книгу — карманную Библию. Она пригодится мне у постели больного или умирающего.
— Возьми мою! — Леди Мюриел бросилась наверх, чтобы принести. — Она не надписана, там только имя «Мюриел», — сказала она, вернувшись. — Можно, я напишу…
— Нет, жизнь моя, — возразил Артур, беря у неё Библию. — Что можно написать лучшего, чем это имя? Способно ли какое-нибудь другое человеческое имя более ясно обозначить её как мою личную собственность? Разве ты не моя? Разве ты, — добавил он со всей своей прежней весёлостью, — не моее всех, как выражается Бруно?
Он сердечно и неторопливо простился с графом и со мной и вышел из комнаты, сопровождаемый только своей женой, которая держалась бодро и выглядела — по крайней мере, старалась выглядеть — даже менее разбитой горем, чем её отец. Мы подождали в комнате минуту-другую, пока стук колёс не возвестил нам, что Артур уехал, но и тогда мы всё ещё ждали, когда затихнут шаги леди Мюриел, поднимавшейся к себе. Всегда такие лёгкие и радостные, её шаги звучали теперь медленно и тяжело, как у человека, тащившегося под грузом беспросветного горя. И я почувствовал такую же безнадёжность и почти такую же обездоленность, как и она.
— Суждено ли нам четверым когда-либо встретиться вновь по эту сторону могилы? — спросил я себя по пути к дому. А похоронный звон, доносящийся издалека, как будто ответил мне: «Нет! Нет! Нет!».
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: [1] А. Я. Ливергант, составивший книжку «Thе Way It Was No. English and American Writers in Parody» (издательство «Радуга», 1983 г.), так комментирует это стихотворение: «Поэтический нонсенс Л. Кэрролла является пародийно-комическим использованием поэтической системы Суинберна… Кэрролл виртуозно воспроизводит характерные для Суинберна аллитерации, ассонансы и пр.; аллегорические образы поэта, помещённые в конкретно-бытовую обстановку, пародийно снижаются и шаржируются. Уменьшительные суффиксы… очевидно, содержат намёк на внешность Суинберна (“Росточком был мал старичонка…”).» (Стр. 325.) [2] Альфред Теннисон, поэма «Энида», первая в цикле «Королевских идиллий». [3] Согласно английскому закону, венчание брачующейся пары могло быть произведено только после двойного церковного оглашения имён будущих супругов. В противном случае требовалось специальное разрешение (лицензия на вступление в брак). . |
____________________________________________________
Пересказ Александра Флори (2001, 2011):
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ
НА ПОМОЩЬ!
– А вот и не засну! – донесся до нас слабый сонный голос. – Ведь совы не спят, и я не засну, пока они не сделают мне «Угу!».
– О Бруно! – воскликнула Сильви. – Разве ты не знаешь, что совы только что проснулись? А лягушки уснули давным-давно.
– А мне какое дело до них? – спросил Бруно. – Я же не лягушонок!
Сильви, как будто, имела на этот счет свое мнение, но не стала его открывать:
– Может, я тебе спою колыбельную? Только вот какую?
– Спроси мистера-сэра, – томно ответил Бруно, развалившись на листе папоротника и заложив руки под голову. Лист под его тяжестью склонился почти до земли.
– Сильви, – капризно добавил он, – это какой-то неправильный лист. Мне здесь не комфортабельно. Не могу же я спать вверх тормашками.
Сильви с истинно материнской нежностью сняла брата с не-удобного листа и переложила на более плотный и упругий. Она чуть тронула этот лист, и он начал раскачиваться, как будто в нем был скрытый механизм. И лист раскачивался не от ветра, потому что никакого ветра не было в помине.
– Почему этот лист колеблется, а другие нет? – спросил я у Сильви. Она улыбнулась и пожала плечами:
– Не знаю. Но он всегда раскачивается, когда на нем располагаются эльфы. Он должен раскачиваться.
– Но почему? – удивился я. – Ведь если люди заметят один качающийся лист, то где гарантия, что они не обнаружат на нем эльфа?
– Конечно, есть! Лист они видят, потому что это просто лист. А чтобы разглядеть Бруно, люди сами должны быть не от мира сего, как вы.
Я счел весьма интересным ее замечание обо мне. Остальное не удивило меня. Да, я вспомнил, что так бывает: идешь по лесу и вдруг замечаешь, как один лист – не важно, дерева, травы или папоротника – раскачивается себе, не обращая внимания на остальные. Вы и сами, наверное, видели что-то подобное? Нет? Тогда как-нибудь проведите такой эксперимент. Но заклинаю вас: ни в коем случае не срывайте лист, не будите маленького эльфа! Кроме того, еще не известно, для кого это обернется хуже.
А Бруно тем временем совсем осоловел. Он бормотал сонным голосом: «Чево же ты не поешь колыбельную?», хотя вряд ли нуждался в ней. Сильви спросила меня:
– Что бы ему спеть?
– А помните ту песню, о которой вы мне как-то рассказывали? – спросил я.
– А, это песня Профессора! – откликнулся Бруно. – Она мне тоже нравится. Вы подыграете, сэр? – обратился он к комму-то на противоположной стороне листа, и я разглядел восседавшего на улитке микроскопического старичка с мини-лютней. Старичок заиграл, а улитка помавала рожками ему в такт, словно дирижируя:
Старичинушка в домишке
С женушкою проживал.
Малые имел мыслишки,
Лихо резался в картишки,
Жил – и горюшка не знал.Но разок, поев шпината,
Молвил: «Будет маловато!
Мусик, я не сыт ничуть!»
«Масик! – Мусенька сказала. –
Этого, конечно, мало.
Ты мне гусика добудь!»Я же, распростясь с тобою,
Всю посудку перемою»
«Ладушки!» – сказал дедок,
Снял ружарик он со стенки,
Смазал пятки и коленки –
И в лесочек со всех ног.В том лесочке все зверушки
Не играются в игрушки:
Волки зайчиков жуют.
Мошек ловят лягушатки,
С цаплями играя в прятки,
Удирают без оглядки –
Не догнал бы их Капут.По неведомой дорожке
Там гуляют бабки-ёжки,
Хулиганят лешачки,
Ведьмочек резвится стая,
Прямо в небо улетая
Без печали и тоски.В этом миленьком лесочке
Феечки, что ангелочки,
С эльфиками день-деньской,
Веселы и вдохновенны,
Распевают кантилены
Дивной летнею порой.И возникла из тумана
Некая фата-моргана.
Поднялся и звон, и гул.
Вот просяпали куда-то
За Калушей Калушата.
Вот прошла Бокра – кудмата,
И стозевна, и горбата.
Баскерфилин промелькнул.Вылезают из болота
Два ужасных Бармаглота –
Брандашмыг и Белендряс.
Куздра глокая сначала
Их немного побудлала
И курдячить принялась.Хор зверей поет в экстазе:
«Гусь – само благообразье!
Он милее голубей!
Что сказать тебе о гусе,
О его изящном вкусе?
Влёт родименького бей!»Тут звериная капелла
Замерла и онемела.
Вот ружарик он берет.
И, не глядя в круг прицела,
Старичинушка умело
Гусика сражает влёт!<1>
– Вот и всё, – сказала Сильви. – По-моему, он спит.
И заботливо подоткнула лепесток фиалки, которым она еще раньше накрыла Бруно, словно одеялом.
– Спокойной ночи!
– Спокойной ночи! – отозвался я.
– Ну, если на вас моя песня действует усыпляюще, тогда спокойной ночи! – засмеялась Леди Мюриэл, опуская крышку роя-ля. – И вы совсем не слышали, о чем была песня?
– Там было что-то о гусе? – осмелился предположить я, но тут же поправился: – О какой-то птице?
Леди Мюриэл поджала губы:
– О какой-то птице! Очаровательно.
Она прошла в курительную комнату, где, наплевав на правила приличия и куртуазности, три Высших Существа, развалясь в креслах-качалках, снисходительно позволяя юным чаровницам изящно протискиваться между ними и ублажать их прихоти про-хладительными напитками, сигарами и огнем. Один из них, лорд Нэй, не ограничивался банальным «благодарю», а цитировал нечто высокопоэтическое. Причем он норовил подтвердить слова действиями.
Разговор этих аристократов был светским, то есть на редкость бессодержательным. Леди Мюриэл вернулась, и мы некоторое время сидели молча.
Наконец, я нарушил тишину вопросом:
– Не слышно ничего нового о лихорадке в Эльфилде?
– С утра не было никаких, – сказал Граф с озабоченным видом. – Но обстановка тревожная. Эпидемия растет. Лондонский врач испугался и уехал. Там теперь только один временный врач на все случаи: он и аптекарь, и терапевт, и дантист, и я даже не знаю кто. Дело плохо – и для рыбаков, а для женщин и детей ничего хуже не придумаешь.
– А сколько там жителей? – спросил Артур.
– Неделю назад было около сотни, – ответил Граф. – А с тех пор было не меньше двадцати, а то и тридцати смертей.
– А есть там священники?
– Я бы сказал: три настоящих рыцаря, – голос Графа дрожал от волнения. – Право, они заслужили Крест Виктории! И я уверен, что никто из них оттуда не уедет ради спасения собственной жизни. Там есть молодой викарий с женой. Детей у них нет. Еще католический священник. И, наконец, глава прихода. Они заняты каждый своей паствой. И, насколько мне известно, каждый умирающий хочет исповедоваться кому-нибудь из них, любому. В сущности, конфессиональные различия настолько незначительны перед лицом Жизни и Смерти.
– Так и должно быть! – воскликнул Артур.
В это время властно зазвенел звонок. Дверь отворилась, и послышались голоса. Затем выглянула старая домработница. Вид у нее был встревоженный.
– Милорд, там два человека к доктору Форестеру.
Артур вышел, и вскоре послышалось:
– О, друзья мои!
Дальше было неразборчиво, кроме слов «десять утром, и двое только что». Потом донесся голос Артура:
– Там есть врач?
И кто-то, понизив голос, сказал:
– Умер три часа назад.
Леди Мюриэл вздрогнула и закрыла лицо руками. Тут входная дверь тихо затворилась, и больше мы не услышали совсем ничего. Несколько минут длилось тягостное безмолвие. Затем Граф вышел из комнаты, вернулся и сообщил, что Артур уехал с двумя рыбаками. Он оставил записку, что вернется через час.
И точно, через час Артур возвратился. Мы всё это время провели в молчании. Дверь скрипнула на своих ржавых петлях, из коридора донеслись шаги, как будто слепой искал дорогу. Шаги были неуверенными, и мы поначалу усомнились, что это Артур.
Он вошел и, став перед Леди Мюриэл, тяжело опустил руку на стол. Взгляд его был отсутствующим.
– Мюриэл, любовь моя, – он запнулся, но через минуту овладел собой. – Мюриэл, дорогая, они просят, чтобы я поехал в Эльфилд.
– Вы должны поехать, Артур? – спросила она со слезами. – Но ведь это же верная смерть!
Он бестрепетно посмотрел ей в глаза:
– Возможно. Но, дорогая, эти люди меня зовут – и это знак свыше. Я полагаюсь на волю Провидения! И моя судьба…
Он замолчал.
Некоторое время она сидела молча. Только дрожащие губы выдавали ее волнение. Вдруг ее лицо просветлело, она взглянула на него и сказала:
– Ваша судьба? Но разве ваша жизнь настолько ваша, чтобы ее можно было отдать?
Артур очнулся и ответил очень уверенно:
– Вы правы. Она теперь отдана вам. А вы позволите мне уехать? Вы отдадите меня людям?
Она склонила голову ему на грудь, чего раньше никогда не делала.
– Я отдам вас в руки Всевышнему, – ответила она тихо и твердо.
– И его беднякам, – добавил Артур.
– И его беднякам, – сказала она. – Когда вы должны ехать, дорогой мой?
– Завтра утром, – ответил он. – И еще нужно столько успеть.
Потом он рассказал нам, что делал в течение этого часа. Он зашел к священнику и договорился о венчании на завтрашнее утро в хорошо известной нам церквушке.
– А мой старый добрый друг, – сказал Артур обо мне, – будет свидетелем. Ваш отец, наверное, не станет возражать? А вы определитесь со своими свидетелями?
Она молча покачала головой.
– И тогда я спокойно поеду служить Всевышнему, зная, что душой мы вместе, хотя и разделены. Мы будем воссылать молитвы в один час, и это сблизит нас больше всего.
– Да! Да! – и Леди Мюриэл разрыдалась. – Но вам нужно идти, дорогой мой. Вы должны отдохнуть. Завтра вам потребуется много сил.
– Пожалуй, – согласился Артур. – Завтра мы должны прийти сюда заранее. Покойной ночи, дорогая.
Домой мы пошли вместе. По дороге Артур вздыхал, пытался что-то сказать, но так и не решился.
Лишь когда мы вошли в дом, зажгли свечи, он сказал:
– Покойной ночи, друг мой.
И я ответил:
– Спокойной ночи. Бог вас благослови.
К восьми утра мы были в Эшли-Холле. Нас ждали Граф, Леди Мюриэл и старый викарий. Это был необычный – печальный и тихий праздник.
После завтрака Артур должен был ехать.
– Вы взяли всё? – спросила Леди Мюриэл.
– Всё, что необходимо врачу, – ответил он. – Мне в общем-то почти ничего не нужно. Даже костюма брать не буду, оденусь там в рыбацкую робу. Я беру только часы, несколько книг и еще карманный Новый Завет, чтобы читать его у изголовья больных.
– Возьми мой! – сказала Леди Мюриэл и принесла книгу.
– Я не знаю, что написать, – смущенно сказала она.
– Напиши свое имя, – ответил Артур. – Ничего не может быть прекраснее этого.
Когда он уехал, Леди Мюриэл поднялась наверх, чтобы замереть во времени.
«Встретимся ли мы когда-нибудь все вместе?», – думал я, идя домой.
И колокольный звон отвечал:
«Нет! Нет! Нет!»
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: [1] В переводе сделано немало цитат и отсылок. Вот некоторые из них: — «Маловато будет!» — см. м-ф «Падал прошлогодний снег» (1984); — Мусик — см. роман И. Ильфа, Е. Петрова «12 стульев» (1928): «Мусик!!! Готов гусик?!»; — Масик — см. к-ф «Девушка без адреса» (1957): «Масик хочет водочки»; — ружарик — слово взято из «Приключений Эмиля из Лённеберги» А. Линдгрен (перевод Л. Лунгиной); — Волки зайчиков жуют… — см. отрывок из стихотворения Николая Олейникова «Генриху Левину по поводу влюбления его в Шурочку Любарскую»: ..Страшно жить на этом свете, — За Калушей Калушата… — см. отрывок из Л. Петрушевской «Пуськи бятые»: — Вот прошла Бокра… — см. известную филологическую шутку Л. Щербы «Глокая куздра штеко будланула бокра и курдячит бокренка», где (как и у вышеупомянутой Л. Петрушевской) все корневые морфемы заменены на бессмысленные сочетания звуков. — Бармаглот, Брандашмыг… — чудища в переводе Д. Орловской стихотворения «Бармаглот» из «Алисы в Зазеркалье». В оригинале — «Jabberwocky» и «Bandersnatch». . |
____________________________________________________
Карлик на охоте
Сказал господин Крохотулька
Прекрасной своей половинке:
«Швырни мне на счастье, Свистулька,
Вослед развалюшки ботинки.
Подай ружьецо, что со спичку,
Зайду за травинку и – ах! –
Я Утку иль Селезня-птичку
Добуду – ба-бах!»Даёт ему жёнка ружьечко,
Швыряет на счастье ботинки,
Шажком направляется к печке
И ужин готовит мужчинке.
А он, не сказав ни словечка,
С крылечка на речку спешит,
Где всякая дичь недалечко
Пищит и шуршит.Омарик на донышке дремлет,
И злится занудный Комарик,
И Крабик покоя не емлет,
И всё рассуждает, кошмарик:
«Личинку съедает Лягушка,
Однако, расплата близка:
Квакушку съедает Крякушка, –
Какая тоска!»Берёт он Крякушку на мушку,
Но вдруг – голоса над макушкой:
«Гоните с реки срамотушку,
Гоните с его грохотушкой!»
И замелитешили, застригли,
Строчат и вверху, и внизу,
Пророчат и фигли, и мигли, –
Большую грозу!И в каждой его волосинке –
Смешата, смешки, смешачихи.
Звучат Голоса-Голосинки,
Их вопли, и кашли, и чихи:
«Пускай только спустит пружинку,
Проклятый бабай-разбабай,
Мы вмиг зачаруем Вражинку
Под “баюшки-бай”!Не будет ни дна, ни покрова,
И Кошка сыграет на Плошке,
Луну оседлает Корова
И с Блюдом поссорятся Ложки.
Паук твою душу заштрафит,
Мисс Маффет заштрафит в ночи,
Ведь если им кто не потрафит, –
Ой, лучше молчи!И Лето проглотит перчинку,
И музыка станет кусачей,
И небо увидеть с овчинку –
И то уже станет удачей.
Исполним во лжи и обмане
В тумане, где разум померк,
Тебе в издевательской рани
Мы Марш-Недомерк!Когда, коротышка женатый,
Добудешь ты Селезня-Утку,
Тебе твой добыток пернатый
Домой мы доставим в минутку.
Друзья твои, парень, мездрюшки,
Мизерный и скверный народ.
Эх, дать бы хлопушкой по мушке:
На, вот тебе, вот!»Он выстрелил в Селезня-Утку.
Навеки умолкли смешинки,
И сам он доставил в минутку
Добычу своей половинке.
А та своему челдобречку
Салатик выносит с яйцом,
Чтоб завтра он снова на речку
Сходил с ружьецом!———————
Перевод создан 25.10.1998. Отредактирован 7.11.1998. Публикации: «Былые дни, былые времена». Страницы английской и шотландской поэзии в переводах Евгения Фельдмана. – Омск: Министерство культуры Омской области, 2012. – С. 424–426; Английская комическая поэзия от Байрона до Киплинга. – Харьков: Фолио, 2013. – С. 93–96.
____________________________________________________