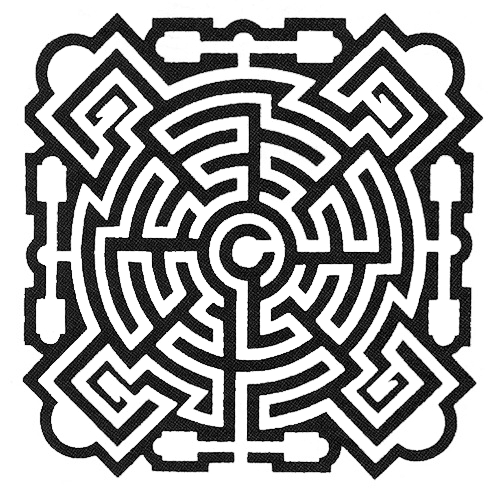Рубрика «Параллельные переводы Льюиса Кэрролла»
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ | след. >>>

Рис. Harry Furniss (1889).
ОРИГИНАЛ на английском (1889):
CHAPTER SIXTEEN
BEYOND THESE VOICES
`I DIDN’T quite catch what you said!’ were the next wordsthat reached my ear, but certainly not in the voice either of Sylvie orof Bruno, whom I could just see, through the crowd of guests, standingby the piano, and listening to the Count’s song. Mein Herr was the speaker.`I didn’t quite catch what you said!’ he repeated. `But I’ve no doubt youtake my view of it. Thank you very much for your kind attention. Thereis only but one verse left to be sung!’ These last words were not in thegentle voice of Mein Herr, but in the deep bass of the French Count. And,in the silence that followed, the final stanza of `Tottles’ rang throughthe room.
See now this couple settled down
In quiet lodgings, out of town:
Submissively the tearful wife
Accepts a plain and humble life:
Yet begs one boon on bended knee:
`My ducky-darling, don’t resent it!
Mamma might come for two or three—‘
`NEVER!’ yelled Tottles. And he meant it.
The conclusion of the song was followed by quite a chorusof thanks and compliments from all parts of the room, which the gratifiedsigner responded to by bowing low in all directions. `It is to me a greatprivilege,’ he said to Lady Muriel, `to have met with this so marvellousa song. The accompaniment to him is so strange, so mysterious: it is asif a new music were to be invented! I will play him once again so as thatto show you what I mean.’ He returned to the piano, but the song had vanished.
The bewildered singer searched through the heap of musiclying on an adjoining table, but it was not there, either. Lady Murielhelped in the search: others soon joined: the excitement grew. `What canhave become of it?’ exclaimed Lady Muriel. Nobody knew: one thing onlywas certain, that no one had been near the piano since the Count had sungthe last verse of the song.
`Nevare mind him!’ he said, most good-naturedly. `I shallgive it you with memory alone!’ He sat down, and began vaguely fingeringthe notes; but nothing resembling the tune came out. Then he, too, grewexcited. `But what oddness! How much of singularity! That I might lose,not the words alone, but the tune also—that is quite curious, I suppose?’
We all supposed it, heartily.
`It was that sweet little boy, who found it for me,’ theCount suggested. `Quite perhaps he is the thief?’
`Of course he is!’ cried Lady Muriel. `Bruno! Where areyou, my darling?’
But no Bruno replied: it seemed that the two childrenhad vanished as suddenly, and as mysteriously, as the song.
`They are playing us a trick!’ Lady Muriel gaily exclaimed.`This is only an ex tempore game of Hide-and-Seek! That little Bruno isan embodied Mischief!’
The suggestion was a welcome one to most of us, for someof the guests were beginning to look decidedly uneasy. A general searchwas set on foot with much enthusiasm: curtains were thrown back and shaken,cupboards opened, and ottomans turned over; but the number of possiblehiding-places proved to be strictly limited; and the search came to anend almost as soon as it had begun.
`They must have run out, while we were wrapped up in thesong,’ Lady Muriel said, addressing herself to the Count, who seemed moreagitated than the others; `and no doubt they’ve found their way back tothe housekeeper’s room.’
`Not by this door!’ was the earnest protest of a knotof two or three gentlemen, who had been grouped round the door (one ofthem actually leaning against it) for the last half-hour, as they declared.`This door has not been opened since the song began!’
An uncomfortable silence followed this announcement. LadyMuriel ventured no further conjectures, but quietly examined the fasteningsof the windows, which opened as doors. They all proved to be well fastened,inside.
Not yet at the end of her resources, Lady Muriel rangthe bell. `Ask the housekeeper to step here,’ she said, `and to bring thechildren’s walking-things with her.’
`I’ve brought them, my Lady,’ said the obsequious housekeeper,entering after another minute of silence. `I thought the young lady wouldhave come to my room to put on her boots. Here’s your boots, my love!’she added cheerfully, looking in all directions for the children. Therewas no answer, and she turned to Lady Muriel with a puzzled smile. `Havethe little darlings hid themselves?’
`I don’t see them, just now,’ Lady Muriel replied, ratherevasively. `You can leave their things here, Wilson. I’ll dress them, whenthey’re ready to go.’
The two little hats, and Sylvie’s walking-jacket, werehanded round among the ladies, with many exclamations of delight. Therecertainly was a sort of witchery of beauty about them. Even the littleboots did not miss their share of favourable criticism. `Such natty littlethings!’ the musical young lady exclaimed, almost fondling them as shespoke. `And what tiny tiny feet they must have!’
Finally, the things were piled together on the centre-ottoman,and the guests, despairing of seeing the children again, began to wishgood-night and leave the house.
There were only some eight or nine left—to whom the Countwas explaining, for the twentieth time, how he had had his eye on the childrenduring the last verse of the song; how he had then glanced round the room,to see what effect `de great chest-note’ had had upon his audience; andhow, when he looked back again, they had both disappeared—when exclamationsof dismay began to be heard on all sides, the Count hastily bringing hisstory to an end to join in the outcry.
The walking-things had all disappeared!
After the utter failure of the search for the children,there was a very halfhearted search made for their apparel. The remainingguests seemed only too glad to get away, leaving only the Count and ourfour selves.
The Count sank into an easy-chair, and panted a little.
`Who then are these dear children, I pray you?’ he said.`Why come they, why go they, in this so little ordinary a fashion? Thatthe music should make itself vanish—that the hats, the boots, should makethemselves to vanish—how is it, I pray you?’
`I’ve no idea where they are!’ was all I could say, onfinding myself appealed to, by general consent, for an explanation.
The Count seemed about to ask further questions, but checkedhimself.
`The hour makes himself to become late,» he said. `I wishto you a very good night, my Lady. I betake myself to my bed—to dream—ifthat indeed I be not dreaming now!’ And he hastily left the room.
`Stay awhile, stay awhile!’ said the Earl, as I was aboutto follow the Count. `You are not a guest, you know! Arthur’s friend isat home here!’
`Thanks!’ I said, as with true English instincts, we drewour chairs together round the fire-place, though no fire was burning—LadyMuriel having taken the heap of music on her knee, to have one more searchfor the strangely-vanished song.
`Don’t you sometimes feel a wild longing,’ she said, addressingherself to me, `to have something more to do with your hands, while youtalk, than just holding a cigar, and now and then knocking off the ash?Oh, I know all that you’re going to say!’ (This was to Arthur, who appearedabout to interrupt her.) `The Majesty of Thought supersedes the work ofthe fingers. A Man’s severe thinking, plus the shaking-off a cigar-ash,comes to the same total as a Woman’s trivial fancies, plus the most elaborateembroidery. That’s your sentiment, isn’t it, only better expressed?’
Arthur looked into the radiant, mischievous face, witha grave and very tender smile. `Yes,’ he said resignedly: `that is my sentiment,exactly.’
`Rest of body, and activity of mind,’ I put in. `Somewriter tells us that is the acme of human happiness.’
`Plenty of bodily rest, at any rate!’ Lady Muriel replied,glancing at the three recumbent figures around her. `But what you callactivity of mind—‘
`—is the privilege of young Physicians only,’ said theEarl. `We old men have no claim to be active. What can an old man do butdie?’
`A good many other things, I should hope,’ Arthur saidearnestly.
`Well, maybe. Still you have the advantage of me in manyways, dear boy! Not only that your day is dawning while mine is setting,but your interest in Life—somehow I ca’n’t help envying you that. It willbe many a year before you lose your hold of that.’
`Yet surely many human interests survive human Life?’I said.
`Many do, no doubt. And some forms of Science; but onlysome, I think. Mathematics, for instance: that seems to possess an endlessinterest: one ca’n’t imagine any form of Life, or any race of intelligentbeings, where Mathematical truth would lose its meaning. But I fear Medicinestands on a different footing. Suppose you discover a remedy for some diseasehitherto supposed to be incurable. Well, it is delightful for the moment,no doubt—full of interest—perhaps it brings you fame and fortune. Butwhat then? Look on, a few years, into a life where disease has no existence.What is your discovery worth, then? Milton makes Jove promise too much.»Of so much fame in heaven expect thy meed.» Poor comfort when one’s «fame»concerns matters that will have ceased to have a meaning!’
`At any rate one wouldn’t care to make any fresh medicaldiscoveries,’ said Arthur. `I see no help for that—though I shall be sorryto give up my favourite studies. Still, medicine, disease, pain, sorrow,sin—I fear they’re all linked together. Banish sin, and you banish themall!’
`Military science is a yet stronger instance,’ said theEarl. `Without sin, war would surely be impossible. Still any mind, thathas had in this life any keen interest, not in itself sinful, will surelyfind itself some congenial line of work hereafter. Wellington may haveno more battles to fight—and yet—
«We doubt not that, for one so true,
There must be other, nobler work to do,
Than when he fought at Waterloo,
And Victor he must ever be!»‘
He lingered over the beautiful words, as if he loved them:and his voice, like distant music, died away into silence.
After a minute or two he began again. `If I’m not wearyingyou, I would like to tell you an idea of the future Life which has hauntedme for years, like a sort of waking nightmare—I ca’n’t reason myself outof it.’
`Pray do,’ Arthur and I replied, almost in a breath. LadyMuriel put aside the heap of music, and folded her hands together.
`The one idea,’ the Earl resumed, `that has seemed tome to overshadow all the rest, is that of Eternity—involving, as it seemsto do, the necessary exhaustion of all subjects of human interest. TakePure Mathematics, for instance—a Science independent of our present surroundings.I have studied it, myself, a little. Take the subject of circles and ellipses—whatwe call «curves of the second degree». In a future Life, it would onlybe a question of so many years (or hundreds of years, if you like), fora man to work out all their properties. Then he might go to curves of thethird degree. Say that took ten times as long (you see we have unlimitedtime to deal with). I can hardly imagine his interest in the subject holdingout even for those; and, though there is no limit to the degree of thecurves he might study, yet surely the time, needed to exhaust all the noveltyand interest of the subject, would be absolutely finite? And so of allother branches of Science. And, when I transport myself, in thought, throughsome thousands or millions of years, and fancy myself possessed of as muchScience as one created reason can carry, I ask myself «What then? Withnothing more to learn, can one rest content on knowledge, for the eternityyet to be lived through?» It has been a very wearying thought to me. Ihave sometimes fancied one might, in that event, say «It is better notto be», and pray for personal annihilation—the Nirvana of the Buddhists.’
`But that is only half the picture,’ I said. `Besidesworking for oneself, may there not be the helping of others?’
`Surely, surely!’ Lady Muriel exclaimed in a tone of relief,looking at her father with sparkling eyes.
`Yes,’ said the Earl, `so long as there were any othersneeding help. But, given ages and ages more, surely all created reasonswould at length reach the same dead level of satiety. And then what isthere to look forward to?’
`I know that weary feeling,’ said the young Doctor. `Ihave gone through it all, more than once. Now let me tell you how I haveput it to myself. I have imagined a little child, playing with toys onhis nursery-floor, and yet able to reason, and to look on, thirty yearsahead. Might he not say to himself «By that time I shall have had enoughof bricks and ninepins. How weary Life will be!» Yet, if we look forwardthrough those thirty years, we find him a great statesman, full of interestsand joys far more intense than his baby-life could give—joys wholly inconceivableto his baby-mind—joys such as no baby-language could in the faintest degreedescribe. Now, may not our life, a million years hence, have the same relation,to our life now, that the man’s life has to the child’s? And, just as onemight try, all in vain, to express to that child, in the language of bricksand ninepins, the meaning of «politics», so perhaps all those descriptionsof Heaven, with its music, and its feasts, and its streets of gold, maybe only attempts to describe, in our words, things for which we reallyhave no words at all. Don’t you think that, in your picture of anotherlife, you are in fact transplanting that child into political life, withoutmaking any allowance for his growing up?’
`I think I understand you,’ said the Earl. `The musicof Heaven may be something beyond our powers of thought. Yet the musicof Earth is sweet! Muriel, my child, sing us something before we go tobed!’
`Do,’ said Arthur, as he rose and lit the candles on thecottage-piano, lately banished from the drawing-room to make room for a`semi-grand’. `There is a song here, that I have never heard you sing.
«Hail to thee, blithe spirit!
Bird thou never wert,
That from Heaven, or near it,
Pourest thy full heart!»‘
he read from the page he had spread open before her.
`And our little life here,’ the Earl went on, `is, tothat grand time, like a child’s summer-day! One gets tired as night drawson,’ he added, with a touch of sadness in his voice, `and one gets to longfor bed! For those welcome words «Come, child, `tis bed-time!»‘
.
____________________________________________________
Глава шестнадцатая
СКВОЗЬ ГОЛОСА
«Не совсем понял, что вы хотели сказать!» — таковы были несколько слов, достигших моего слуха, но голос… Голос явно не принадлежал ни Сильвии, ни Бруно, которые, насколько я мог видеть сквозь толпу гостей, преспокойно стояли возле фортепьяно, слушая песню Французского Графа. Нет, эти слова произнес Господин.
— Не совсем понял, что вы хотели сказать! — повторил он. — Но я просто убежден, что вы разделяете мою точку зрения. Весьма признателен вам за терпение. Знаете, мне осталось спеть еще одну, последнюю строфу! — Последние слова произнес уже не мягкий голос Господина, а глубокий бас Французского Графа. И через миг в тишине, воцарившейся в зале, зазвучали заключительные строки песни о Тоттлсе:
Ютится парочка в глуши
В убогом доме на гроши;
В слезах печальная жена
Век коротать обречена.
«Ах, не сердись! Что за беда?
Мамаша к нам приедет в пять…»
«Ну нет! — Тоттлс рявкнул. — НИКОГДА!
Нет!» (Вот что он хотел сказать.)
Последние слова песни буквально утонули в дружном хоре одобрительных возгласов и комплиментов, доносившихся со всех концов зала. Довольный певец поблагодарил публику, отвесив низкие поклоны на все четыре стороны.
— Для меня большая честь, — обратился он к леди Мюриэл, — познакомиться с такой замечательной песней и даже исполнить ее. Мелодия такая странная, таинственная, загадочная; можно подумать, что это поистине неземная музыка! Я хотел бы сыграть ее еще раз и показать вам, что именно я имел в виду… — С этими словами он повернулся к фортепьяно и обнаружил, что ноты… исчезли.
Удивленный певец принялся рыться в груде партитур, лежавшей на столике возле фортепьяно, но их там не оказалось. Леди Мюриэл принялась помогать ему; вскоре к ним присоединились и другие гости. Напряжение нарастало.
— Куда же они могли запропаститься? — воскликнула леди Мюриэл. Этого никто не знал; было ясно только одно: с тех пор, как Французский Граф допел последние строки песни, за фортепьяно никто больше не садился.
— Ну и бог с ними! — добродушно заявил певец. — Я сыграю вам по памяти! — Сказав это, он уселся за фортепьяно и принялся подбирать ноты, но мы так и не услышали ничего, хоть отдаленно похожего на мелодию песни. Граф был изумлен: — Надо же, как странно! Подумать только! И как это я мог забыть, причем не какие-то там слова, а мелодию! Забавно, не правда ли?
Мы искренне согласились с ним.
— Мне принес их тот очаровательный малыш, — проговорил Французский Граф. — Возможно, он их и похитил. Что вы скажете?
— Он, конечно же это он! — воскликнула леди Мюриэл. — Бруно, мальчик мой, где же ты?
Но Бруно нигде не было; более того, пропала и его сестра. Дети исчезли столь же таинственным, поистине волшебным образом, что и ноты…
— А может, они нас просто разыгрывают? — весело сказала леди Мюриэл. — Вдруг это всего лишь ex tempore[31] игра в прятки? Знаете, малыш Бруно — прирожденный плут!
Это предположение было с готовностью принято большинством присутствующих, поскольку некоторые из гостей начали было всерьез беспокоиться. Все с энтузиазмом принялись за розыски детей: гардины на окнах то и дело отдергивались и задергивались, ящики выдвигались, диваны переворачивались, но число всевозможных укромных мест оказалось весьма ограниченным, и поиски прекратились почти так же скоро, как и начались.
— Может быть, они убежали в тот самый момент, когда мы аплодировали вам, — предположила леди Мюриэл, обращаясь к Французскому Графу, который был огорчен куда больше, чем остальные, — и выбрались из зала в комнату экономки…
— Только не через эту дверь! — энергично запротестовали два или три почтенных джентльмена, стоявших возле двери (а один из них даже прислонился к ней.) — Эта дверь не открывалась с самого начала вечера!
Наступило неловкое молчание. Леди Мюриэл не высказывала больше никаких предположений, а потихоньку осматривала задвижки на окнах, открывавшихся точно так же, как и двери. Все они открывались внутрь.
Не закончив свой осмотр, леди Мюриэл позвонила в колокольчик.
— Попросите экономку прийти к нам, — распорядилась она, — и принести вещи наших маленьких гостей.
— Я их уже принесла, госпожа, — отвечала запыхавшаяся экономка, входя в зал через несколько минут. — Я подумала, что юная леди забежит ко мне, чтобы надеть свои башмачки. Вот они, милая девочка! — добавила она, оглядываясь по сторонам и пытаясь отыскать глазами детей. Увы, ответа не последовало, и экономка со смущенной улыбкой взглянула на леди Мюриэл. — Куда же спрятались наши малютки?
— Я и сама их никак не найду, — с досадой отвечала леди Мюриэл. — Уилсон, оставьте детские вещи здесь. Когда дети найдутся, я сама помогу им одеться…
Экономка послушно отдала две детские шапочки и дорожную курточку Сильвии дамам, которые тотчас заохали от восхищения. О, на вещи малышей обрушилась целая лавина восторгов. Не остались без похвал и крошечные башмачки.
— Ах, какие они крохотные! — воскликнула молодая музыкантша, вне себя от восторга. — Представляю, какие у нее малюсенькие ножки!
Наконец детские вещи были торжественно уложены на середину огромного дивана, и гости, отчаявшись дождаться детей, пожелали хозяевам доброй ночи и начали разъезжаться по домам.
Осталось всего человек восемь-девять, и Французский Граф в двадцатый раз принялся рассказывать им, как он не спускал глаз с детей, пока пел последние строки песни, как он обвел взглядом зал, чтобы полюбоваться, какой эффект произвела на слушателей его коронная «грудная нота», и как, обернувшись к малышам, увидел, что они просто-напросто исчезли… В этот момент со всех сторон раздались возгласы изумления, и Граф, поспешно прервав свой рассказ, присоединился к ним.
Оказалось, что детские вещи бесследно исчезли!
После напрасных попыток найти детей присутствующие со страхом взялись за поиски их облачения. Оставшиеся гости поспешили покинуть дом. Остались только хозяева, мы с Артуром да Французский Граф.
Французский Граф плюхнулся на стул, дрожа всем телом.
— Ради всего святого, скажите мне: кто же эти милые дети, а? — проговорил он. — Почему они появляются и исчезают столь необычным образом? Почему исчезли их ноты, а вместе с ними и шапочки, и башмачки, и все прочее? Как это может быть, я вас спрашиваю?
— Просто не представляю, куда они могли подеваться! — отвечал я, чувствуя, что общественное мнение требует от меня объяснений.
Французский Граф хотел было спросить еще что-то, но передумал.
— Однако уже поздно, — заметил он. — Желаю вам самой спокойной на свете ночи, миледи. Мне давно пора ложиться спать — если только после всего этого можно уснуть! — С этими словами он поспешно направился к двери.
— Куда же вы? Оставайтесь! — воскликнул Граф, когда я собрался последовать его примеру. — Вы же не простой гость! Друг Артура вправе чувствовать здесь себя как дома!
— Благодарю, охотно! — отвечал я.
И мы по доброй английской традиции подвинули свои кресла поближе к камину, хотя огонь в нем давно угас. Леди Мюриэл, разложив на коленях кучу партитур, принялась искать пропавшие ноты.
— Не приходилось ли вам испытывать неловкость, — обратилась она ко мне, — когда во время разговора вы никак не могли найти, чем бы занять руки, и просто вертели в пальцах сигару, изредка стряхивая с нее пепел? О, я отлично знаю все, что вы скажете! — Эти последние слова были адресованы уже Артуру, который попытался было вмешаться и прервать ее. — Величие Мысли подавляет работу пальцев. Мужчина, напряженно обдумывающий что-то, стряхивая при этом пепел с сигары, достигает того же, что и женщина, занятая тривиальными разговорами и плюс к тому — искусным вышиванием. Это ведь всего лишь проявление чувств, только иначе выраженное, не так ли?
Артур взглянул на ее сияющее, буквально светящееся счастьем лицо и мягко улыбнулся.
— Вы правы, — согласился он. — Это и впрямь выражение моих чувств…
— А еще — знак покоя тела и работы мозга, — вставил я. — Некоторые писатели утверждают, что это — проявление акме, вершины человеческого блаженства.
— Ну, покоя тела — это верно, я согласна! — отвечала леди Мюриэл, обведя глазами трех мужчин, сидевших вокруг нее. — Но что касается работы мозга…
— …то это привилегия исключительно молодых врачей, — подхватил Граф. — А нам, старикам, незачем проявлять активность. Что хорошего может сделать старик, кроме как умереть?
— Хотелось бы надеяться, немало хорошего, — возразил Артур.
— Что ж, возможно. Однако вы, милый юноша, обладаете по сравнению со мной массой преимуществ! Дело даже не только в том, что ваша жизнь — это рассвет, а моя — закат. Я просто завидую вашему напряженному интересу к жизни. О, до тех пор, пока вы его утратите, пройдет еще много лет…
— Но ведь многие увлечения сохраняются на всю жизнь, не так ли? — заметил я.
— О, вне всякого сомнения! На мой взгляд, это относится к некоторым областям науки — но только к некоторым. Так, например, поистине неисчерпаемым потенциалом в этом смысле обладает математика. Право, невозможно представить себе какую-либо сферу жизни мыслящих существ, в которой математические истины утратили бы свое значение. А что касается медицины — боюсь, она зиждется на совершенно ином основании. Допустим, вы открыли лекарство от какого-нибудь недуга, считавшегося прежде неизлечимым. Конечно, это на какое-то время весьма приятно — и даже может принести вам славу и успех. Но что же потом? Загляните на несколько лет вперед, когда от этого недуга не останется и следа. Чего будет тогда стоить ваше открытие? Мильтон заставляет Иова ждать слишком долго. «Награда ждет тебя на небесах». Слабое утешение в ситуации, когда само понятие «слава» утрачивает всякое значение!
— Ну, во всяком случае, люди не будут стремиться к новым и новым открытиям в медицине, — отвечал Артур. — Они просто потеряют всякий смысл, хотя мне и жаль отказаться от своих любимых исследований. Видите ли, боюсь, что лекарства, болезни, боль, страдания, грех — это звенья одной цепи. Уничтожьте грех — и все остальное исчезнет само собой!
— О, что уж тогда говорить о военном деле! — заметил Граф. — Война ведь без греха просто немыслима. И всякий человек, проявляющий активный интерес к жизни, который сам по себе вовсе не является греховным, наверняка смог бы найти для себя более достойное поле деятельности. Так, Веллингтон мог бы вообще не возглавлять сражения, и тем не менее:
Сомненья нет в том, что такой герой
Нашел бы более достойный труд, чем бой
Под Ватерлоо. На стезе любой
Он был бы Победителем всегда!
Он продекламировал эти слова таким тоном, точно они очень ему нравились; и его голос растаял в тишине, словно музыка, доносящаяся откуда-то издалека.
Граф немного помолчал и продолжал:
— Я вовсе не собираюсь вас пугать. Просто мне хотелось поделиться с вами мыслями о будущем, которые, как ночной кошмар, преследуют меня вот уже много лет, и я никак не могу от них избавиться.
— Продолжайте, пожалуйста, — откликнулись мы с Артуром.
Леди Мюриэл расстроенно отложила кипу нот и скрестила руки на груди.
— Так вот, — заметил Граф, — мысль, которая, на мой взгляд, заслоняет все остальные, — это мысль о том, что Вечность — это неизбежное угасание интереса человечества ко всему и вся. Взять хотя бы чистую математику — науку, не зависящую от внешних факторов. Признаться, я и сам немного занимался ею. Возьмем окружности и эллипсы — все то, что мы называем «кривыми второго порядка». В будущем полное описание всех их свойств — это вопрос десятилетий (или, если угодно, нескольких веков.) Затем человек обратится к кривым третьего порядка. Допустим, для их изучения потребуется времени в десять раз больше (мы ведь договорились, что время у нас неограниченно — как-никак Вечность). Я плохо представляю себе человека, способного заинтересоваться подобными вещами; и хотя в отношении порядка кривых, которые он будет изучать, нет никаких ограничений, тем не менее время, необходимое для исчерпания всякой новизны и интереса к ней, весьма и весьма ограниченно, не так ли? Это касается и всех прочих областей науки. И вот, мысленно переносясь в будущее на многие тысячи или даже миллионы лет и столкнувшись лицом к лицу с такой Наукой, которую только может вообразить себе тварный разум, я спрашиваю себя: «И что же дальше? Когда изучать будет больше нечего, успокоится ли человек на всю оставшуюся Вечность на тех знаниях, которыми он уже располагает?» Эта мысль была для меня настоящим мучением. И я иной раз соглашался, что в таком случае можно сказать «уж лучше не быть» и возносить молитвы об уничтожении личного начала — то есть о достижении буддийской нирваны.
— Но ведь это всего лишь одна сторона дела, — заметил я. — Разве, помимо работы ради собственного блага, не следует помогать другим?
— О, разумеется, разумеется! — воскликнула леди Мюриэл, взглянув на отца. Ее глаза так и сияли.
— Да, конечно, — отвечал Граф, — но только до тех пор, пока другие будут нуждаться в помощи. Но со временем, спустя миллионы и миллионы лет, все тварные явления бытия достигнут предела и исчерпают себя. И что же ожидает нас тогда?
— О, мне знакомо это чувство, — отвечал молодой врач. — Я не раз испытывал его. А теперь, если позволите, я расскажу вам, как я от него избавился. Я представил себе ребенка, играющего в куклы на полу детской и способного тем не менее заглянуть на тридцать лет вперед. Разве он не скажет себе: «К тому времени мне ужасно надоедят все эти кегли и кирпичики… Боже, какой унылой будет моя жизнь!» А если в то же самое будущее на те же тридцать лет заглянем мы, мы увидим его великим государственным мужем, интересы и увлечения которого, недоступные для детского сознания, неизмеримо шире всех его младенческих забав, так что на детском языке их просто-напросто невозможно описать. А если это так, то почему наше бытие через многие и многие миллионы лет не может оказаться в таком же отношении к нашей теперешней жизни, как жизнь взрослого человека — к жизни младенца? И подобно тому, как если кто-нибудь — и, разумеется, напрасно — попытался бы объяснить ребенку на языке кеглей и кирпичиков значение слова «политика», так, вероятно, и все наши описания Неба и Рая со всей их музыкой небес, красками и улицами из чистого золота — не более чем попытки выразить на нашем языке то, что вообще невозможно передать словами. Не кажется ли вам, что в своей картине иной жизни вы прямо переносите бедного ребенка в пучину политической жизни, не делая никаких скидок на его возраст?
— Кажется, я вас понял, — отвечал Граф. — Музыка небес — это нечто такое, что находится за пределами нашего разума. Зато земную музыку мы вполне можем понять, и она поистине прекрасна! Мюриэл, дитя мое, спой нам что-нибудь на ночь глядя!
— Просим, — подхватил Артур, вставая и зажигая свечи на пюпитре скромного пианино, лишь недавно убранного из гостиной, чтобы освободить место для более солидного «светского» фортепьяно. — Вот — песня, которую я никогда не слышал из ваших уст.
Дух, презревший небыль!
Птицам не понять
Льющуюся с неба
Твою благодать! —
прочла она на первой открывшейся странице.
— Вот и человеческая жизнь, — продолжал Граф, — в это великое время похожа на летний день малыша! И когда приходит ночь, человек очень устает, — добавил он, и в его голосе послышалась нотка печали, — и ему пора ложиться в постель! Ибо уже слышится голос: «Пойдем, малыш! Пора спать!».
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: 31 — Здесь: импровизированная (лат.) . |
.
____________________________________________________
Перевод Андрея Москотельникова (2009):
ГЛАВА XVI
Сюрприз в конце
— Простите, не расслышал! — Таковы были следующие слова, что достигли моего уха, только голос не принадлежал ни Сильвии, ни Бруно — а я отлично их видел сквозь мельтешение гостей: они стояли у рояля и слушали пение маркиза. Оказалось, это говорил Майн Герр. — Не понял, прошу прощения, что вы сказали, — повторил он. — И всё же не сомневаюсь, что моя точка зрения вам ясна. Премного благодарен за ваше любезное внимание. А теперь осталось пропеть всего один куплет! — Это было произнесено уже не мягким голосом Майн Герра, но глубоким басом маркиза. Вновь наступила тишина, и в комнате зазвучал финальный куплет «Прикола».
«Теперь живут супруг с женой
Спокойной жизнью и простой
Вдали от лондонских забот.
Жена, случается, всплакнёт:
“Голубчик, можно, к нам сюда
Хотя б ко мне на именины
Приедет мама…” — “Никогда!” —
Вопит Прикол. И есть причины».
Тут во всех концах комнаты раздался дружный хор благодарностей и похвал, в ответ на которые польщённый исполнитель раскланялся на все стороны.
— Мне необыкновенно повезло, — обратился он к леди Мюриел, — что у вас нашлась такая чудесная песня. Аккомпанемент настолько необычен, настолько чуден, словно кто-то открыл совершенно новый род музыки! Я проиграю ещё разок, чтобы вы поняли, что я имею в виду. — Он вернулся к роялю, но ноты исчезли.
Озадаченный певец принялся рыться в кипе нот, лежащих на журнальном столике рядом, но той песни не было и там. Леди Мюриел бросилась ему помогать, остальные тоже присоединились; всеобщее возбуждение росло.
— Да куда они подевались? — восклицала леди Мюриел. Никто не знал, но все в один голос утверждали, что после того как маркиз пропел последний куплет, к роялю никто не подходил.
— Ну да Бог с ними! — сказал маркиз, не теряя веселого расположения духа. — Я сыграю по памяти. — Он сел и принялся неопределённо нажимать на клавиши, однако из-под его пальцев не выходило ничего, хотя бы отдалённо напоминавшего ту мелодию. Наконец он не выдержал. — Что за чёрт! Вот так штука! Мог ли я забыть не только слова, но даже мелодию? Как это объяснить, а?
Мы все как могли стали его успокаивать.
— Это был тот пригожий мальчонка; это он отыскал для меня те ноты, — вспомнил маркиз. — Очевидно, он и воришка!
— Конечно, это он! — воскликнула леди Мюриел. — Бруно! Где ты, мой дорогой?
Ответа от Бруно не последовало — казалось, двое детишек исчезли так же внезапно и столь же загадочно, как и ноты.
— Они что, разыгрывают нас? — весело воскликнула леди Мюриел. — Игру в прятки затеяли! Этот маленький Бруно — воплощённое озорство!
Мы все охотно приняли это предположение, ведь кое-кто из гостей уже почувствовал решительную неловкость. Все с единодушным рвением ринулись на поиски: гости раздвигали и ощупывали портьеры, открывали дверцы буфета, переворачивали оттоманки, но число мест, удобных для укрытия, оказалось совсем невелико, и поиск подошёл к концу, едва успев начаться.
— Они, должно быть, выбежали из комнаты, когда мы были заняты поисками нот, — сказала леди Мюриел, обращаясь к маркизу, который был возбуждён сильнее прочих, — и они, несомненно, сами нашли дорогу в комнату экономки.
— Только не через эту дверь! — послышался категоричный протест со стороны двух-трёх джентльменов, чья компания как раз занимала место у дверей (а один из них даже прислонился к ним) последние полчаса, судя по их словам. — Эту дверь вообще никто не открывал с самого начала пения!
Наступило неловкое молчание. Леди Мюриел не отважилась на дальнейшие догадки, но тщательно исследовала задвижки на окнах, опускавшихся до пола, словно двери. Окна оказались накрепко запертыми, причём изнутри.
Едва успев закончить изучение задвижек, леди Мюриел позвонила в колокольчик.
— Позовём экономку, — объяснила она, — и попросим принести дорожные вещи детишек.
— Вот они, миледи, — сказала исполнительная экономка, вторично войдя и нарушив мёртвую тишину. — Только я полагала, что маленькая леди сама придёт ко мне в комнату, чтобы обуть свои сапожки. Вот твои сапожки, моя милая! — весёлым голосом добавила она, оглядываясь вокруг в поисках детишек. Ответа она не получила, поэтому обратилась к леди Мюриел с озадаченной улыбкой на лице: — Милые шалуны где-то прячутся?
— Да, сейчас их не видать, — уклончиво ответила леди Мюриел. — Оставьте их вещи здесь, миссис Уилсон. Я сама одену детишек, когда они захотят домой.
Тут дамы принялись передавать друг другу две маленькие шляпки и дорожную курточку, сопровождая их умильными возгласами. От этих вещей словно исходило колдовское обаяние. Сильвины сапожки тоже не избежали своей доли восторженных замечаний.
— Какие они маленькие и изящные! — воскликнула юная пианистка, с нежностью прижимая их к себе. — Ну и крохотные же ножки должны их обувать!
В конце концов вещи были сложены рядком на оттоманку, стоящую посреди комнаты, и гости, отчаявшиеся вновь увидеть детей, стали прощаться и покидать дом.
Оставалось человек восемь-девять — им маркиз в двадцатый раз объяснял, что во время исполнения последнего куплета глаз не спускал с детишек, лишь на секунду, закончив петь, обвёл взглядом комнату, чтобы проверить, какой эффект на слушателей произвела его «низкая грудная нота», и только он вознамерился вновь взглянуть на брата и сестричку — глядь, а оба исчезли! — когда со всех сторон послышались испуганные возгласы, и маркиз тот час оборвал рассказ, чтобы присоединить к ним и свой голос.
Все дорожные вещи детишек исчезли!
Помня о решительной неудаче поисков самих детей, мы крайне неохотно приступили к поискам их наряда. Задержавшиеся гости очень уж заторопились восвояси, и вскоре в комнате остались только маркиз да нас четверо.
Маркиз рухнул в мягкое кресло и тяжело засопел.
— Кто они такие, эти дети, позвольте спросить? Почему это они приходят и уходят таким далеко не обычным манером? Сначала исчезают ноты, затем, понимаете ли, шляпки, сапожки — как это возможно, позвольте спросить?
— Не имею ни малейшего представления! — вот всё, что я мог ответить (а я чувствовал, что все, не сговариваясь, ожидали объяснения именно от меня).
Маркиз хотел было ещё о чём-то спросить, но махнул рукой.
— Время идёт, становится поздно, — сказал он. — Желаю вам очень доброй ночи, миледи. Отправлюсь-ка я в постель… ко сну… если только я уже не сплю! — И он торопливо нас покинул.
— Задержитесь, задержитесь ещё немного! — поспешно произнёс граф, видя, что я собираюсь последовать за маркизом. — Вы же не гость, вы это прекрасно знаете! Друг Артура всегда здесь дома!
— Благодарю вас! — ответил я, и, повинуясь чисто английскому инстинкту, мы придвинули наши кресла поближе к камину, пусть даже огня в нём не было разведено. Леди Мюриел взяла к себе на колени кипу нот, чтобы ещё раз перебрать их в поисках столь загадочно исчезнувшей песни.
— Вас никогда не посещает страстное желание, — спросила она, обращаясь ко мне, — иметь какое-нибудь более существенное занятие для своих рук, пока вы разговариваете, чем просто держать сигару и время от времени стряхивать с неё пепел? О, я всё знаю, что ты хочешь сказать! — Это относилось к Артуру, который уже собирался перебить её. — Великие Мысли заменяют работу пальцев. Упорное думанье мужчины плюс стряхивание сигарного пепла в сумме дают столько же, что и банальные фантазии женщины плюс самая что ни на есть утончённая вышивка. Удачно я выразила твоё мнение?
Артур взглянул в её смеющееся озорное лицо со степенной и одновременно нежной улыбкой.
— Я не сумел бы выразить его лучше, — смиренно признал он.
— Покой тела и деятельность мозга… — вставил я. — Некоторые авторы убеждают нас, что это вершина человеческого счастья.
— Ну покойных тел у нас тут хватает, — отозвалась леди Мюриел, глядя на три откинувшиеся фигуры вокруг себя. — Но вот насчёт того, что вы зовёте деятельностью мозга…
— …она является привилегией одних только молодых Докторов, — сказал граф. — Мы, старики, не претендуем ни на какую деятельность. Что ещё может сделать старик, как не умереть?
— Ну, ещё много чего, несомненно, — заверил его Артур.
— Возможно… Но всё равно, что ни возьми, во всём у вас передо мной преимущество, мой мальчик! И не только потому, что ваше время — это рассвет, а моё — закат, но потому также, что вы заинтересованы жизнью, да так сильно, что я могу только позавидовать. Много-много лет должно пройти, прежде чем вы утратите свой интерес.
— Но существует множество интересов, для удовлетворения которых и человеческой жизни не хватит, — сказал я.
— Много, это правда. К ним относятся некоторые разделы Науки, но только некоторые, я думаю. Математика, например: она, несомненно, вызывает бесконечный интерес — нельзя представить ни одну форму жизни и ни одно племя разумных существ, применительно к которым математическая истина утратила бы свой смысл. Вот Медицина, боюсь, базируется на иных основаниях. Допустим, вы открыли лекарство от какой-то болезни, до того считавшейся неизлечимой. Хорошо, в тот момент вы чувствуете себя счастливым, вы заинтересованы в своём открытии… возможно, оно принесёт вам честь и славу. Но что потом? Взглянем через пару лет на жизнь, где эта болезнь больше не существует. Чего стоит ваше открытие тогда? Мильтон напрасно заставляет своего Юпитера «увенчивать славой» людские заслуги. «Лишь в горних сферах, где вершит он суд, награды… смертных ждут»![1] Слабое утешение, когда эти самые заслуги касаются материй, быстро утрачивающих значимость!
— Но такому человеку, во всяком случае, можно будет не лезть из кожи вон, чтобы сделать какое-нибудь свежее медицинское открытие, — возразил Артур. — Ничего не поделаешь, хоть лично мне было бы жаль отказаться от моих любимых занятий.
Последовало молчание, которое спустя минуту или две нарушил Граф.
— Мне хотелось бы поделиться с вами некоторыми мыслями касательно жизни в будущем. Эти мысли преследовали меня много лет как ночной кошмар, но я так и не смог них от избавиться.
— Будьте любезны, — почти в один голос ответили Артур и я. Леди Мюриел убрала ноты и сложила руки на коленях.
— Мысль, по сути, всего одна, — продолжал граф, — зато она, должен сказать, затмила все остальные. Она заключается в том, что Вечность неминуемо подразумевает истощение любых человеческих интересов. Взять, к примеру, Чистую Математику — науку, которая независима от нынешней нашей среды обитания. Я сам немного ею занимался. Рассмотрим круги и эллипсы — то, что называется «кривые второго порядка». Применительно к жизни будущего встаёт только вопрос количества лет (или сотен лет, если угодно), за которое человек распишет все их свойства. Затем он может перейти к кривым третьего порядка. Скажем, на них он потратит в десять раз больше времени (а его, по условию, у нас не ограничено). Я с трудом могу представить, что его интерес к этому предмету сохранится столь долго, и хоть нет предела степеням кривых, которые он может изучать, но зато время, за которое истощится новизна предмета и его интерес к нему, отнюдь не бесконечно! То же с любой другой областью Науки. И когда я мысленно переношусь через тысячи и миллионы лет и воображаю себя обладателем стольких научных познаний, сколько может вместить человеческий разум, я спрашиваю себя: «Что дальше? Изучать больше нечего, способен ли кто-либо почить в довольстве на знаниях, когда впереди ещё целая вечность?» Лично мне такая мысль не даёт покоя. Иногда мне представляется, что найдутся такие, которые решат: «Лучше не быть вовсе», — и пожелают личного уничтожения — буддийской Нирваны.[2]
— Но это лишь часть картины, — сказал я. — Можно работать над собой, но можно при этом приносить пользу другим.
— Верно, верно! — с энтузиазмом выпалила леди Мюриел, взмахивая на отца искрящимися глазами.
— Да, — сказал граф, — пока есть другие, кто действительно нуждается в помощи. Но вот пройдут ещё и ещё годы, и в конце концов все человеческие существа достигнут этого ужасного уровня пресыщенности. Какими глазами они станут смотреть в будущее?
— Мне знакомо это мучительное чувство, — сказал молодой Доктор. — Я прошёл сквозь всё это и не единожды. Позвольте мне рассказать вам, как я ставил эту проблему пред собой. Я вообразил себе маленького ребёнка, играющего со своими игрушками на полу в детской и уже способного рассуждать и заглянуть за тридцать лет вперёд. Разве не скажет он себе: «К этому времени я вдоволь наиграюсь с кубиками и лопаточками. Насколько же скучна будет моя жизнь!» Но когда мы перенесёмся через эти тридцать лет, мы увидим его крупным государственным деятелем, полным интересов и удовольствий гораздо более насыщенных, чем те, которые предоставляло ему детство — удовольствий совершенно непостижимых для его детского ума, таких удовольствий, которые его детский язык был не в состоянии хоть приблизительно описать. Но не будет ли и наша жизнь миллион лет спустя так же далека от нашей теперешней жизни, как далека жизнь взрослого от жизни ребёнка? И точно так же, как кто-то совершенно безуспешно будет пытаться выразить этому ребёнку на примере кубиков и лопаток смысл слова «политика», так же, возможно, все эти описания Небес с их музыкой, с вечным праздником, с мощёными золотом улицами — всего только попытки описать понятными нам словами те вещи, для которых у нас на самом деле вовсе не имеется слов. Не думаете ли вы, что, воображая себе картину будущей жизни, вы попросту переносите дитя в политику, не предоставив ему времени, чтобы вырасти?
— Полагаю, что понял вас, — сказал граф. — Музыка Небес и впрямь выше нашего понимания. Зато музыка Земли такая приятная! Мюриел, девочка моя, спой нам что-нибудь, перед тем как мы отправимся спать.
— Просим, — сказал Артур, встав и зажигая свечи на скромном пианино, пару часов тому назад изгнанном из гостиной ради комнатного рояля. — Тут есть одна песня, которую я ещё не слышал в твоём исполнении.
«Здравствуй, дух поющий!
Нет, не птица ты —
Маг, блаженство льющий
В сердце с высоты!»
— прочитал он со страницы, которую раскрыл перед ней.
— И наша пустяковая нынешняя жизнь, — продолжал граф, — по сравнению с тем великим временем — словно солнечный день в жизни ребёнка! Но приходит ночь, и человек чувствует себя утомлённым, — добавил он с оттенком печали в голосе, — и тогда голова сама собой клонится к подушке! И он ждёт-недождётся, когда ему скажут: «Пора в постель, дитя моё!».
.
|
ПРИМЕЧАНИЯ ПЕРЕВОДЧИКА: [1] «Ликид» (иначе, «Люсидас»), ст. 83-84. Пер. Ю. Корнеева. [2] Подобная проблема актуальна и сегодня, после ещё нескольких научно-технических революций. Джон Хорган, учёный и публицист, пишет в своей книге «Конец науки»: «Огромное большинство людей, не только непросвещённые массы, но также и те, кто претендует на интеллектуальность… находят научные знания в лучшем случае малоинтересными и определённо не стоящими того, чтобы служить целью всего человечества. Какой бы не оказалась дальнейшая судьба Homo sapiens… научные знания, вероятно, не будут её целью». (Цит. по изданию: СПб, «Амфора/Эврика», 2001г., стр. 394; перевод М. Жукова.) . |
____________________________________________________
Пересказ Александра Флори (2001, 2011):
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ
ГОЛОСА И ПОДГОЛОСКИ
– Простите, я не совсем понял, что вы сказали, – послышался чей-то голос. Но он не принадлежал ни Сильви, ни Бруно (их я видел в толпе гостей, внимавших пению графа). По-видимому, говорил Мин Херц. Он повторил:
– Я не совсем понял, что вы сказали. Но я уверен, что вы меня поддержите. Спасибо вам за внимание. Остался еще один куплет, – сказал он басом французского графа.
И в наступившей тишине он запел:
Теперь в деревне парочка живет
Подальше от соблазнов и невзгод.
Хоть благосостоянье не растет,
Живут по средствам. Пашут круглый год.
Бывает, что супруга занудит:
«Ах, с мамочкою был бы просто рай!
Ну, пусть у нас с недельку погостит…»,
Но Тоттлз, как разумный индивид,
Ей отвечает: «Нет! Не искушай»
Грянули аплодисменты. Певец снисходительно раскланялся во все стороны.
– Это для меня такая честь! – воскликнул он, обращаясь к Леди Мюриэл. – Стать первым исполнителем этой изумительной песни. А какая музыка – это просто магия! Это новаторская музыка! Сейчас я ее проиграю, и вы поймете, что имеется в виду.
Он сел за рояль, но тут обнаружилось, что ноты исчезли. Исполнитель с раздражением перевернул несколько клавиров на соседнем столе, но ничего не нашел. Леди Мюриэл стала ему помогать, потом присоединились остальные. Напряжение возрастало.
– Что могло случиться? – возмущалась Леди Мюриэл.
Никто ей не ответил даже предположительно. Но все были убеждены: после окончания романса к роялю никто не приближался.
– Ничего страшного, – пытался успокоить общество певец. – Я исполню этот романс по памяти.
Он сел за инструмент и принялся перебирать пальцами по клавишам – без видимого успеха. Вместо музыки выходил какой-то сумбур. Певец начал нервничать:
– Какой-то злой рок! Угораздило же меня потерять ноты именно этой изумительной пьесы! И ведь никто не приближался к инструменту! Или их забрал тот мальчишка? Может быть, он – злоумышленник?
– Не исключено! – согласилась Леди Мюриэл. – Бруно, где вы, дитя мое?
Но Бруно не откликнулся. Казалось, оба ребенка исчезли так же, как эта волшебная музыка – может, даже вместе с нею.
– Я думаю, эти дети решили нас разыграть, – сказала Леди Мюриэл. – Они где-то прячутся. Этот маленький Бруно – сущее бедствие!
Предположение всем понравилось. Гости были не прочь поиграть в прятки, и некоторые стали искать детей. Они раздвинули все шторы, распахнули буфеты, заглянули под диваны – и никого не обнаружили.
– Может, они убежали, пока мы слушали романс? – высказала новое предположение Леди Мюриэл. – Ну, конечно, они выбежали в соседнюю комнату.
Графа это взволновало еще больше.
– Через эту дверь никто не выбегал! – возразили два или три джентльмена. – Мы свидетели: она даже не открывалась.
После этого откровения в комнате повисла мертвая тишина. Леди Мюриэл уже не рисковала делать предположения, во избежание худшего. Она только проверила, затворены ли окна. Они оказались заперты изнутри.
Еще не совсем потеряв надежду, Леди Мюриэл вызвала домоправительницу и велела принести вещи детей.
Через некоторое время испуганная домоправительница вернулась с вещами в руках:
– Вот что мне удалось найти. Юные господа почему-то не зашли за ними. А что, детишки куда-то запропали?
– Да, сейчас их что-то не видно, – уклончиво ответила Леди Мюриэл. – Оставьте их вещи здесь. Я сама одену детей, когда они придут.
Две шапочки, выходной жакет Сильви пошли по рукам. На них смотрели с умилением. И то сказать: вещицы были премилые. Особенного изумления удостоились туфельки. Одна леди даже воскликнула не без зависти:
– Это какие же миниатюрные ножки должны быть у той девочки!
Одежду положили на оттоманку в центре зала. Гости, уже потерявшие надежду дождаться детей, распрощались и начали разъезжаться по домам. Остались еще человек восемь или девять. Граф в сотый раз поклялся, что он глаз с детей не спускал во время исполнения романса. Он позволил себе отвлечься на мгновение, когда закончил и стал кланяться публике. И в это момент оба младенца исчезли. Граф не успел договорить, как вдруг его прервали восклицания ужаса.
Вещи исчезли. Потерпев фиаско с детьми, гости немного поискали одежду – скорее для очистки совести. А потом стали расходиться. Остались только четыре самых близких друга семьи.
Граф опустился в мягкое кресло, тяжело дыша.
– Кто-нибудь может объяснить, что это за дети? Зачем они пришли сюда? Почему так странно исчезли? Сначала музыка, потом они, а потом их вещи… Ну, музыка – это я понимаю. Но все остальное! Ничего не понимаю.
Он мог бы еще продолжать свои рассуждения, но вдруг опомнился:
– Уже поздно. Спокойной ночи.
И он поспешно удалился. Я встал, чтобы следовать за ним.
– Погодите, – воскликнул английский граф. – Вы не просто гость. Друг Артура – в этом доме как родной.
– Благодарю вас, – ответил я, и мы, как настоящие джентльмены, сдвинули кресла и уютно расположились у камина, хотя там и не было огня. Леди Мюриэл положила на колени стопку нотных тетрадей и продолжала искать таинственно исчезнувшую музыку.
– У вас никогда не возникало желания, когда вы держите сигару и смахиваете пепел, делать руками что-то еще (производить еще какие-то манипуляции)? Я знаю, что вы хотите сказать (обратилась она к Артуру, который открыл рот). Зачем двигать пальцами, когда движется мысль? Серьезные мысли мужчин и легкие движения пальцев при стряхивании пепла, у женщин – легкомыслие и замысловатые движения пальцев при вышивании. У каждого свое. Вы же это имели в виду?
Артур заглянул в ее лукаво-жизнерадостное лицо и, снисходительно улыбаясь, ответил:
– Да, именно это.
– Покой тела и работа ума, – высказал я свое скромное мнение. – Один писатель сказал, что это и есть предел человеческого счастья.
– Да, абсолютный покой, – иронически согласилась Леди Мюриэл, созерцая три тела, абсолютно покоящиеся в креслах. – Что до работы ума…
– … это привилегия молодых врачей, – сказал английский граф. – У нас, стариков, нет такой потребности. Нам вообще пора на покой.
– Не думаю, – возразил Артур. – Вы еще на многое способны.
– Может быть, может быть… Но у вас есть преимущество. Нам время тлеть, а вам цвести. У вас есть еще интерес к жизни, которому нельзя не завидовать. И он не пройдет еще много лет.
– Да, – согласился я. – Многие наши интересы простираются далее нашей жизни. Даже большинство.
– Большинство – безусловно. И некоторые науки тоже. Именно некоторые. Математика, например. Ее интересы, на первый взгляд, безграничны. Ни одна форма жизни, ни одна раса разумных существ не имеет смысла там, где математика теряет свое значение. Но медицина, боюсь, стоит на других позициях. Допустим, вы открыли средство от болезни, которая до сих пор считалась неизлечимой. Без сомнения, этот волнующий момент преисполнен интереса. То есть интереса в меркантильном смысле – как источник славы и денег. Но что из этого следует? Пройдет несколько лет – и эта ваша болезнь перестанет существовать. Ну, и зачем тогда ваше открытие? Мильтон вкладывает в уста Юпитера обещание: «На небесах получишь больше славы, чем желаешь». Но разве это утешение, когда желание славы уже прошло!
– Во многих случаях никто бы не стал заботиться о новых открытиях в медицине, – сказал Артур. – Не вижу в этом смысла. Хотя и жаль, что пришлось бы оставить любимые учения. Лекарство, болезнь, боль, грусть, грех – опасаюсь, что все это связано больше, чем мы думаем. Избавьтесь от греха – и вы избавитесь от всего прочего. А пуще всего – от самомнения.
Коль покоренье мира входит в ваши цели,
Должны вы занести на памяти скрижали:
Прекрасно, если вы победу потерпели,
Но и другие пораженье одержали.
Он вслушивался в красивые слова, как будто они ему понравились, и его голос, как музыка, растворился в тишине.
– Военная наука – пример посильнее, – сказал Граф. – Без греха война невозможна. Любой ум, имевший в жизни важный интерес, не греховный от природы, всегда найдет для себя много дела (в продвижении по греховному пути). У Веллингтона может и не быть великих битв, однако… однако…
Минуты через две он продолжил:
– Если я вас еще не утомил, позвольте поделиться с вами проектами будущего, похожими на ночные кошмары. Они преследуют меня много лет. Я не могу переубедить себя.
– О, расскажите, умоляю! – с придыханием воскликнул Артур.
Леди Мюриэл отложила ноты и сложила руки на коленях.
Граф охотно принялся за объяснения:
– Идея, которая затмевает все прочие – это идея Вечности. Она сводит на нет любые человеческие интересы. Возьмем, например, чистую математику – науку, не зависящую от материальных предметов, науку чистых форм – допустим, окружностей и эллипсисов. В общем, того, что мы именуем дугами (кривыми) второй степени. Чтобы изучить их свойства, понадобится много лет (или столетий). Затем ученые перейдут к дугам третьей степени, и на это уйдет времени в десять раз больше. И вы думаете, что у кого-нибудь на это хватит хотя бы терпения, не говоря уже об интересе? И то же касается других наук: сделайте их абстрактными – и вы уничтожите всякий интерес. И когда я пытаюсь вообразить науку далекого будущего – лет через миллион – я спрашиваю себя: что дальше? Когда все будет изучено, останется довольствоваться знаниями, которые уже добыты. Пока занимаешься наукой, живешь – миллионы лет, а потом еще и вечность. Многовато для меня. Найдутся, пожалуй, люди, которые скажут, что лучше, когда есть конец. Придумали же буддисты нирвану.
– Это половина правды! – возразил я. – Если жить для себя, то незачем. Но разве нельзя жить для других?
– Безусловно! – патетически воскликнула Леди Мюриэл и укоризненно взглянула на отца.
– Конечно, – согласился он. – Осталось только уговорить этих других, чтобы вы им понадобились. Это сейчас люди нуждаются в помощи, но когда-нибудь все потребности отомрут. И что же?
– Да, – задумчиво сказал Артур. – Мне знакомо это чувство усталости. Я испытал его много раз. Я представлял себе ребенка, играющего в куклы и уже умеющего говорить. Вот он играет, играет, а потом говорит самому себе: «Лет через тридцать у меня будет столько игрушек – и что же? О, как я устал от жизни!». И вот через тридцать лет он становится важной государственной персоной и теперь играет в такие игры, которых он и вообразить не мог в детстве. И ему теперь открыты наслаждения, которых не мог бы выразить его младенческий язык. И вот вы не допускаете, что наше нынешнее общество пребывает во младенчестве в сравнении с тем, что будет через миллион лет? Ведь и тому ребенку никто бы не перевел слова «политика» на язык его детских понятий. Так может быть, и наш язык не знает слов, пригодных для описания далекого будущего?
– Думаю, что я понял вас, – произнес Граф. – О чем бы вы ни говорили, смысл всегда один и тот же: небесная гармония превыше нашего понимания. Кстати, о гармонии. Мюриэл, дитя мое, спой нам, пожалуйста, колыбельную перед сном.
– Да, пожалуйста, – присоединился Артур.
Он поднялся и зажег свечи на пианино.
– Этого романса еще не было.
Сколько маленьких чудес
В пенье Ариэля!
Он спускается с небес,
Чтобы мы взлетели.
Он пропел это со страницы, которая была раскрыта перед ней.
Граф сказал:
– И наша маленькая жизнь похожа на летний день в детстве. Некоторые засыпают, едва настанет ночь. А других никак не уложишь спать.
Он сказал это с печалью в голосе.
– Им необходимы слова. Идем, дитя мое. Пора спать.
.
____________________________________________________
***