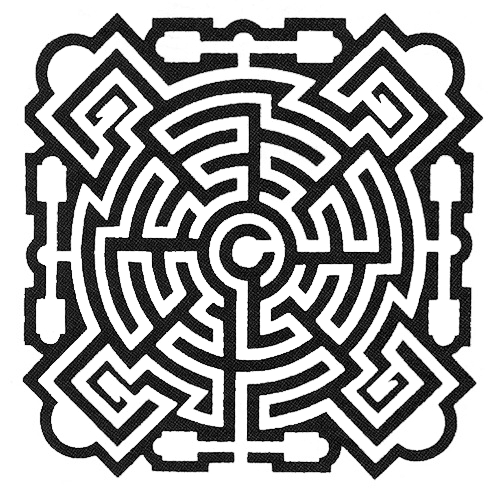Поэзия — «штык» или «замок из слоновой кости»? — Политическая конъюнктура. — Должна ли поэзия быть понятной? — Нужно ли стремиться к простоте? — Поэзия от Бога или от Дьявола?

Автор статьи: Сергей Курий
«…И толковала чернь тупая:
«Зачем так звучно он поет?
Напрасно ухо поражая,
К какой он цели нас ведет?
О чем бренчит? чему нас учит?
Зачем сердца волнует, мучит,
Как своенравный чародей?
Как ветер, песнь его свободна,
Зато как ветер и бесплодна:
Какая польза нам от ней?»
(А. Пушкин)
***
Вот уже несколько веков не прекращается горячий спор на темы «Должна ли поэзия служить идее, партии, народу?», «Должна ли она взывать только к высокому и не касаться низких тем?», «Должна ли она быть нравственной?» и т.п.
Грубо говоря, настоящая поэзия никому и ничему ничего не должна. Она не служанка и не рабыня. С другой стороны — ее дух «дышит, где хочет», для нее нет запретных тем. Главное, чтобы стихи на эти темы были написаны вдохновенно и не скатывались на уровень агиток или газетных статей.
В свое время многие считали непоэтичными стихи Н. Некрасова. Его оппонент — сторонник «чистого искусства» — А. Фет в пылу полемики восклицал:
«…На рынок! Там кричит желудок,
Там для стоокого слепца
Ценней грошовый твой рассудок
Безумной прихоти певца…»
Время всё расставило по своим местам. Неужели жгучее чувство социальной несправедливости не может вызвать к жизни великую поэзию? Неужели обличительные ноты в поэме Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» отменяет поэтические достоинства поэмы? И разве не относится к великой поэзии, пушкинское «К Чаадаеву»:
«…Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут наши имена!»
В то же время многие стихи о «высоком», о всяких там «скрижалях бытия», «небесных розах« и «вечности-бесконечности» оказываются на деле «пустышкой», «заплатой на ветхом рубище певца». Конечно, за туманными образами и красивыми словами легче скрыть свою поэтическую беспомощность.
Другая крайность — писание стихов-листовок на злобу, которые напоминают зарифмованную прозу и обычно устаревают и забываются уже через пару лет. У Ф. Достоевского в «Бесах» есть меткая пародия на модные тогда «идейные народные» стихи:
«Он незнатной был породы,
Он возрос среди народа,
Но гонимый местью царской,
Злобной завистью боярской,
Он обрек себя страданью,
Казням, пыткам, истязанью,
И пошел вещать народу
Братство, равенство, свободу…».
Конечно, стихи на злобу дня писали и великие поэты. Иногда подобно Маяковскому, сознательно подчиняя свой талант Коммунистической партии, иногда с более тривиальными целями — для заработка. Так немало поэтов «серебряного века» зарабатывали патриотическими стихами во время Первой мировой войны, над которыми сами и смеялись. Советские поэты восхваляли вождей и партию. В перестройку многие из тех, кто недавно восхвалял КПСС, начали писать обличительно-разоблачительные антисоветские стихи.
Подобная конъюнктура имеет мало общего с настоящей поэзией. А политических тем надо касаться крайне осторожно, не скатываясь в пошлую прозу.
Да, Маяковский писал агитки и о вреде пьянства, и о вреде курения — весьма мастерски писал. Но такие «идейные» поэмы, как «Владимир Ильич Ленин» или «Во весь голос», до сих пор читаются, как великая поэзия.
«…Мы открывали
Маркса
каждый том,
как в доме
собственном
мы открываем ставни,
но и без чтения
мы разбирались в том,
в каком идти,
в каком сражаться стане.
Мы
диалектику
учили не по Гегелю.
Бряцанием боев
она врывалась в стих,
когда
под пулями
от нас буржуи бегали,
как мы
когда-то
бегали от них…»
Атмосфера страха и доносительства в начале 1930-х годов прекрасно передана О. Мандельштамом:
«…Петербург! я еще не хочу умирать:
У тебя телефонов моих номера.Петербург! У меня еще есть адреса,
По которым найду мертвецов голоса.Я на лестнице черной живу, и в висок
Ударяет мне вырванный с мясом звонок,И всю ночь напролет жду гостей дорогих,
Шевеля кандалами цепочек дверных».
И как поэтично и горько звучит стихотворение Б. Чичибабина, посвященное распаду Советского Союза:
«Судьбе не крикнешь: «Чур-чура,
не мне держать ответ!»
Что было родиной вчера,
того сегодня нет.Я плачу в мире не о той,
которую не зря
назвали, споря с немотой,
империею зла,но о другой, стовековой,
чей звон в душе снежист,
всегда грядущей, за кого
мы отдавали жизнь,С мороза душу в адский жар
впихнули голышом:
я с родины не уезжал —
за что ж ее лишен?Какой нас дьявол ввел в соблазн
и мы-то кто при нем?
Но в мире нет ее пространств
и нет ее времен.Исчезла вдруг с лица земли
тайком в один из дней,
а мы, как надо, не смогли
и попрощаться с ней.…Ее судили стар и мал,
и барды, и князья,
но, проклиная, каждый знал,
что без нее нельзя.И тот, кто клял, душою креп
и прозревал вину,
и рад был украинский хлеб
молдавскому вину.Она глумилась надо мной,
но, как вела любовь,
я приезжал к себе домой
в ее конец любой.…Ее просторов широта
была спиртов пьяней…
Теперь я круглый сирота —
по маме и по ней…»
Вот что отвратительно, так это, когда политическая конъюнктура проявляет себя после смерти поэта. Во многих, издаваемых ныне, поэтических сборниках стихотворение О. Мандельштама «Если б меня наши враги взяли…» заканчивается строками:
«…И налетит пламенных лет стая,
Прошелестит спелой грозой Ленин,
И на земле, что избежит тленья,
Будет губить разум и жизнь Сталин».
В первоначальной версии в последней строчке вместо «губить» стояло слово «будить», а это, как говорят в Одессе, «две большие разницы». Жена поэта утверждала, что первоначально и было задумано «губить», но Мандельштам, мол, изменил слово, чтобы избежать политических преследований. Однако, если непредвзятым взглядом прочесть стихотворение, то по всему видно, что писалось оно не «против», а «за» Сталина. Начиная от вполне понятных «врагов», до «чернорабочей земли» и «легиона братских очей».
Но, как известно, Мандельштам написал и другое стихотворение — «Мы живем под собою, не чуя страны…». Вот оно — явно антисталинское. О политических метаниях поэта мы здесь писать не будем — это выходит за рамки нашей книги. Так или иначе, Мандельштама осудили, и он умер в тюрьме.
Когда в СССР грянула перестройка и гласность, активно начали разоблачать Сталина и решили под шумок поправить и строчку стихотворения. Ленин в первые годы перестройки был еще священен и даже противопоставлялся Сталину, поэтому вождя революции не тронули. А попади сразу под раздачу и Ленин, могло бы «выясниться», что строчки звучали, например, так:
«…И налетит большевиков стая,
А впереди скалит клыки Ленин,
А если что и избежит тленья,
То всё равно это пожрёт Сталин».
В общем, не стоит заставлять поэзию служить. Лучше служить самой поэзии и тогда она облагородит любую тему. В обратном случае нас будут ждать стихи, вроде:
«Депутат набил живот
И забыл про свой народ.
Где наш с маслом бутерброд?»
***
К вопросу о «служении» тесно примыкает другой — «Должна ли поэзия быть простой и понятной народу, или, напротив, быть «темной», сложной и загадочной?» Ответ, казалось бы, лежит на поверхности — поэзия должна быть разной, рассчитанной на разные вкусы. Бывает, что временем востребована сложная экспериментальная поэзия, как это было в начале революционного ХХ века. Но уже в 1930-х годах становится востребована поэзия, обращенная к трудовому человеку, ее язык упрощается и обращается к народному фольклору. К 1960-м годам, когда уровень образования народных масс повышается, простота приедается, и язык поэзии снова становится более изысканным и сложным.
Изысканность плюс сложность далеко не всегда равняются хорошему стихотворению. Юрий Анненков вспоминал, как на одном вечере Маяковский, обращаясь к Есенину (мол, вот как надо, Сережа, писать), прочел свою «Военно-морскую любовь» с необычными рифмами:
«По морям, играя, носится
с миноносцем миноносица.Льнет, как будто к меду осочка,
к миноносцу миноносочка.И конца б не довелось ему,
благодушью миноносьему.Вдруг прожектор, вздев на нос очки,
впился в спину миноносочки…» и т.д.
Есенин ничего на это не сказал, вышел и прочел свою «Песнь о собаке», сорвав град аплодисментов:
«…По сугробам она бежала,
Поспевая за ним бежать…
И так долго, долго дрожала
Воды незамерзшей гладь.А когда чуть плелась обратно,
Слизывая пот с боков,
Показался ей месяц над хатой
Одним из ее щенков.В синюю высь звонко
Глядела она, скуля,
А месяц скользил тонкий
И скрылся за холм в полях.И глухо, как от подачки,
Когда бросят ей камень в смех,
Покатились глаза собачьи
Золотыми звездами в снег».
Я замечал, что многие начинающие поэты чаще всего обращаются именно к экспериментальной стороне поэзии. На первых порах она дает им необходимую свободу, привлекает своей необычностью, позволяет прощупать пределы своих возможностей. Но со временем более подготовленные авторы начинают понимать, что писать запутанным и сложным языком легко. Гораздо сложнее передать то же самое языком простым и ясным. Маяковский, Заболоцкий, Пастернак — все эти поэты постепенно избавлялись от ненужных излишеств. Даже такой отчаянный экспериментатор, как Хлебников мог написать такие простые и ясные стихи, как
«Свобода приходит нагая,
Бросая на сердце цветы,
И мы, с нею в ногу шагая,
Беседуем с небом на ты.
Мы воины, смело ударим
Рукой по суровым щитам:
Да будет народ государем
Всегда, навсегда, здесь и там.
Пусть девы поют у оконца
Меж песен о древнем походе
О верноподданном солнца
Самосвободном народе»…«Мне мало надо!
Краюшку хлеба
И каплю молока.
Да это небо,
Да эти облака!»
Однако такая «простота» не имела ничего общего с примитивностью, в ней (скрыто или явно) оставалось всё то ценное, что было наработано в творческих экспериментах.
С. Аксёненко:
«Когда термин «постмодернизм» ещё не устоялся и существовал в нескольких значениях, одно из них, мне было ближе всего. Постмодернизм, в этом понимании, возвращение к классическим привычным формам, но с учётом опыта модернизма. Вот четверостишие из стихотворения Б. Пастернака «Никого не будет в доме…»:
Только белых мокрых комьев
Быстрый промельк маховой.
Только крыши, снег и, кроме
Крыш и снега, — никого.Стихотворение написано просто и традиционно. Так как писали задолго до всех экспериментов с формой и смыслом, до всех этих «модернизмов-авангардизмов». Но слово «промельк», а также «кроме» на обрыве строки, это уже следы модернизма. На этом примере мы видим, как достижения модернизма, при возращении к классическим формам, обогащают стихотворение».
Бывает и обратный процесс — когда поэт скатывается от ясности к усложнению. Знаю, что навлеку на себя град упреков, но лично мне кажется, что ранние стихи И. Бродского были намного лучше поздних, очень холодных и чрезмерно отягощенных изысканными излишествами.
***
Не менее важный вопрос, касается «нравственности» поэзии. Известна интересная пометка А. Пушкина, которую он сделал на полях статьи П. Вяземского «О жизни и сочинениях В. Озерова». Это была реакция на фразу статьи о том, что поэт должен «согревать любовию и добродетелью и воспалять ненавистию к пороку». В ответ Пушкин написал: «Ничуть. Поэзия выше нравственности – или по крайней мере совсем иное дело. Господи Суси! какое дело поэту до добродетели и порока? разве их одна поэтическая сторона».
Не знаю, насчет «выше» (по-моему, это неравноценное сравнение), но с тем, что это «другое дело» полностью согласен. Хороший портной или каменщик не обязательно должен обладать высокими моральными качествами. И наоборот — если пальто расползается, а кладка получается неровной — вряд ли вас успокоит то, что работник милейший человек, примерный семьянин и любит животных.
Никакие благие намерения сами по себе не гарантируют высокого качества поэзии. Напротив, прописное морализаторство чаще всего делает стихи мертвыми, несвободными. Цель поэта – искренне и вдохновенно передать словами то, что его волнует. Передать так, чтобы заставить других людей испытать при чтении его строк созвучные чувства. А чувства эти могут быть разными — восхищение, ужас, любовь, ненависть, страсть, смех, задумчивость. Стихи подобно магии должны очаровывать.
В. Жуковский:
«Поэт творит словом, и это творческое слово, вызванное вдохновением из идеи, могущественно владевшей душою поэта, стремительно переходя в другую душу, производит в ней такое же вдохновение и ее так же могущественно объемлет; это действие не есть ни умственное, ни нравственное – оно просто власть, которой мы ни силою воли, ни силою рассудка отразить не можем. Поэзия, действуя на душу, не дает ей ничего определенного: это не есть ни приобретение какой-нибудь новой, логически обработанной идеи, ни возбуждение нравственного чувства, ни его утверждение положительным правилом; нет! – это есть тайное, всеобъемлющее, глубокое действие откровенной красоты, которая всю душу охватывает и в ней оставляет следы неизгладимые, благотворные или разрушительные, смотря по свойству художественного произведения, или, вернее, смотря по духу самого художника».
Где же в поэзии место нравственности? — спросите вы. А там же, где и везде — в личности того, кто пишет и в личности того, кто читает. Вы можете заглянуть в душу поэта через его гениальные стихи, понять и почувствовать, что в них выражено. Но вот принять ли их в свою душу — зависит целиком от вас.
Не стоит также забывать, что настоящие поэты часто пишут не только от имени своего маленького «я», но и с помощью некоего внешнего высшего источника энергии, который можно назвать «сверх-Я». Подключаясь к нему посредством вдохновения, поэт способен обостренно улавливать дух народа, дух времени, он как бы сливается со всем миром, всей, знакомой ему, мировой культурой. Вдохновение своей творческой энергетикой действительно похоже на Божественную силу. Однако, оно подобно свету проходит через все линзы и фильтры личности автора. И то, что в итоге поэт напишет — целиком на его совести. Не помню кто, сказал замечательную фразу: «Утверждать, что ты творишь исключительно своими силами — это тщеславие. Но утверждать, что ты «Божественный проводник» — тщеславие куда большее».
Так или иначе, поэт должен предельно полно и честно фиксировать то, что является ему в состоянии вдохновения. Иначе ему лучше оставить это дело.
Не надо бояться, что в творчестве отразятся какие-то «дьявольские» силы. То, что по-настоящему претит вам, вряд ли проникнет в стих — оно будет отсеиваться еще на уровне подсознания. Или выступит под маской какого-нибудь неприятного персонажа, и то, что он неприятный тоже будет прекрасно видно.
Да, среди великих поэтов можно найти немало странных людей. Есть бабники, развратники, алкоголики, трусы. Но вряд ли вы найдете среди них циничных расчетливых негодяев, потому что такие негодяи просто не в состоянии полностью и без остатка отдаться силе вдохновения.
Что касается читателей, то им не стоит забывать, что стихотворения — это сжатые, иногда доведенные до крайности, эмоции и мысли. Если поэт написал, что «жизнь кончена» — это совсем не обозначает, что после этого он, разбежавшись, спрыгнул со скалы. В то же время просветленные счастливые стихи могут быть написаны в самый мрачный период жизни. Поэту вообще свойственно испытывать в полную силу самые противоположные чувства. Как говорил герой одного комедийного сериала, «Это дар и… проклятие».
Но умных и чутких читателей даже трагические и безысходные стихи заставляют переживать, так называемый, катарсис — очищение путем страдания. В то время, как глупых и чутких читателей те же стихи могут вогнать в депрессию и в отдельных случаях даже подтолкнуть к самоубийству. Вины поэта в этом не больше, чем вины жары, которая подтолкнула героя романа А. Камю «Посторонний» на бессмысленное убийство.
Не будьте глупым читателем.
<<< Поэтический сборник | СОДЕРЖАНИЕ | Эпилог >>>
Автор: Сергей Курий