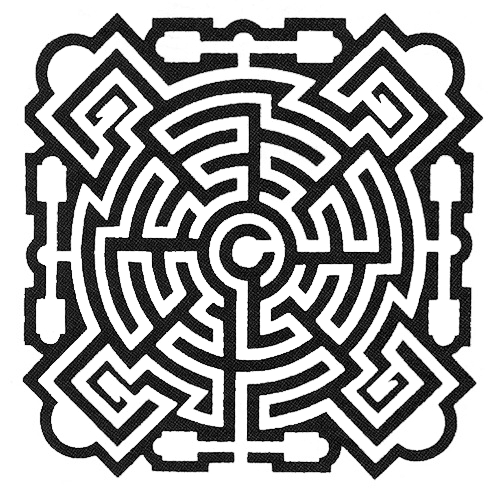Рубрика «Параллельные переводы Льюиса Кэрролла»
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ |
НАКАНУНЕ ВТОРЖЕНИЯ ВЕЩЕЙ, или
НА КОГО ОХОТИЛИСЬ В ПАЛЕОЛИТЕ?
Заметки переводчика
на полях «Охоты на Снарка»
Кое-что об английском нонсенсе
и его интерпретациях
Вероятно, недалеко то время, когда науковедение, описывая научное мышление девятнадцатого века, выставит ему диагноз особой болезни разума. Что это за болезнь, я сейчас скажу. Но начать я хочу с одного литературного жанра, а именно английского нонсенса, ведь именно к этому жанру принадлежит поэма Льюиса Кэррола «Охота на Снарка». Уникальное изобретение английского фольклора, привитое литературе гением Эдварда Лира и самого Кэррола, случайно ли нонсенс вошёл в английскую литературу так прочно? История литературы подсказывает, что нет. Рано или поздно это должно было случиться: явятся гении литературной весёлости и широко распахнут дверь в настоящую литературу и для этого маргинального жанра. Дело даже не в том, что нонсенс и так уже существовал в фольклоре в виде тех же лимериков, которые прославили Эдварда Лира, сочинявшего их в виде подписей к сосбственным рисункам (так сегодня, в эпоху сотовых телефонов и SMS-сообщений, уже появляются SMS-романы), а в том, что он существовал в детском фольклоре — в составе так называемых сборников «Nursery Rhymes», т.е. детских стихотворений, считалок, песенок и загадок. Чтобы нам, русскоязычным читателям, понять развитие литературных вкусов читателя-англичанина, достаточно вспомнить известный с детства стишок:
Три мудреца в одном тазу
Пустились по морю в грозу.
Будь попрочнее старый таз —
Длиннее был бы мой рассказ.
Это и есть один из немногих примеров английского детского нонсенса (в переводе С. А. Маршака). Говорю «немногих», потому что Маршак и другие советские поэты перевёли их всего лишь несколько десятков, тогда как в составе корпуса «Nursery Rhymes» таких стихотворений сотни. На протяжении многих столетий обучение английских детишек азам родного языка происходило через такие стишки. Взрослея, нормальный англичанин навсегда сохранял к нонсенсу глубокую привязанность, что позволило так расцвести на английской почве литературе нонсенса.
Льюис Кэррол создал множество разнохарактерных произведений в этом жанре, но его поэма «Охота на Снарка» (1876г.) по праву считается вершиной нонсенса вообще. По свидетельству самого Кэррола поэма явилась ему как озарение, вся целиком, только это «целиком» заключалось в одной-единственной стихотворной строчке «Ибо Снарк был Буджум, представьте!», которой поэма оканчивается (и с которой она, таким образом, и началась). Казалось бы, поэма кристально прозрачна своей чисто игровой природой и самодостаточна в своей бессмысленности, но…
Вернёмся к началу. …Но в девятнадцатом веке мир был болен некоей отроческой болезнью разума. Разум торжествовал, и был от того болен. Нет, эта болезнь — не любовь к нонсенсу. Эта болезнь — любовь к объяснениям. Объяснять в девятнадцатом веке полагалось всё. Случалось, что объяснения не существовало. Тогда его полагалось придумать — любым способом. Почему, например, изображение на сетчатке получается перевёрнутым, а мы видим мир нормальным? Если наука не подсказывает нам ответа, придумываем вот что: мозги у нас в голове тоже перевёрнуты — то, что называется верхушкой мозга, на самом деле его основание, а то, что называется основанием, это верхушка; простой вопрос медицинской номенклатуры. (Шутка. Кэрроловская.) У этой болезни есть название — позитивизм. К счастью, современная наука близка к избавлению от него: не всё можно, и совсем немного нужно объяснять разумно или интерпретировать логически, ибо само даже понятие логики расширилось. Да английский (детский) нонсенс никому и в голову не приходило интерпретировать, пока… не появился Кэррол. И тут началось.
Первыми не удержались сами англичане. «Снарка» толковали так и этак. Нина Демурова приводит целый перечень интерпретаций в предисловии к составленной ею книжке «Topsy-Turvy World». В поэме видели: сатиру на стремление любой ценой продвинуться по общественной лестнице; юмористическое описание экспедиции на кораблях «Алерт» и «Дискавери», вышедших из Портсмута в 1875 г. на поиски Северо-Западного прохода и вернувшихся в Англию через год; аллегорию на «бизнес в целом» — его олицетворял сам Снарк, Буджум представлялся кризисом, Бобр символизировал текстильную промышленность, Булочник — мелкого буржуа, Бильярдист — спекулянта, гиены — биржевых маклеров, медведь — биржевика, играющего на понижение (таких ведь называют «медведями» на языке биржи), Джубджуб был Дизраэли, Брандашмыг — Английским банком накануне паники 1875 года и так далее. Имели место и более изощрённые догадки — например, что это сатира на гегелевскую теорию Абсолюта, то есть, в конечном счёте, на сам его величество Позитивизм.
И это одни только англичане! Что же говорить об иностранных читателях, не знавших традиции нонсенса на родном языке! Можно представить, как у них чесались мозги уяснить поэму с рациональной точки зрения. По этому поводу мне вспоминается один пример. Предыдущий перевод «Охоты» на русский язык был напечатан в одном из номеров журнала «Техника-молодёжи» в разделе «Клуб любителей фантастики». Чтобы оправдать печатание «Охоты» в «Клубе», переводчик Михаил Пухов полушутя-полусерьёзно предложил следующую трактовку поэмы: в ней, дескать, в символической форме изображён поиск внеземных цивилизаций. Что ж, может и вправду такая трактовка кому-то покажется объяснением тёмных смыслов поэмы. Ведь как и в случае со Снарком, говорит М. Пухов, никто не знает, чего нам от внеземных цивилизаций ждать — всяческих благ или неисчислимых бедствий.
У самого же Кэррола был категорически однозначный ответ на все просьбы расшифровать «Снарка», и это место из его статьи «Алиса на сцене» сделалось знаменитым: «Время от времени я получаю вежливые письма от незнакомых людей, страстно желающих знать, является ли «Охота на Снарка» аллегорией или содержит какую-то подспудную мораль, а может быть политическую сатиру; но на все такие вопросы я могу ответить только одно: «Я не знаю!»
Нам остаётся лишь вернуться к первоначальной констатации: ни одна расшифровка «Охоты» никогда не будет иметь под собой никакой почвы, тем более такой почвой не станет выяснение кэрроловских намерений. Чего же боле? Я собираюсь расшифровать поэму «Охота на Снарка».
Итак, интерпретация
В одном сходятся все исследователи творчества Кэррола: герои его самых известных книг — двух сказок об Алисе — живут в так называемом «мире наизнанку». Кажется, никто уже не сомневается, что «Охота на Снарка» — тот же самый случай. Но «мир наизнанку» сказок об Алисе — это мир сна. Конечно, ведь действие обеих сказок происходит в Алисином сне. В чьем тогда сне охотятся на Снарка Боцман и его команда?
Но «мир наизнанку» — это не только мир сна. Это еще мир детства. Так что же, наши охотники — дети? Можно сказать и так, но я пока так говорить не буду. Значит, они все-таки взрослые? И этого я не стану утверждать. Как же так, не дети и не взрослые? Сейчас объясню.
В начале поэмы перед нами беглое перечисление соратников Боцмана — Бой-Башмаки, пошивщик Беретов, Брокер, Барристер, Бильярдист, Бобр, Булочник… На последнем Кэррол впервые останавливается, чтобы описать поподробнее. Остановимся и мы.
Булочник описан очень прозрачно. Каково указание: он глядел не мигая гиенам в глаза и под руку гулял с медведем! Я бы сказал, это замечание сделал натуралист. Утверждают — в книгах и на канале «Дискавери» — что хищники отступают под взглядом человека. Но Булочник и сам по себе обладает чрезвычайной способностью общаться с животными — он, собственно, и может общаться только с животными, но зато на их же языке — именно из-за этой способности он и является таким ценным приобретением для команды охотников, как о нём с восторгом отзывается Боцман. И что же мы видим? Булочник практически не может объясниться со своими товарищами, сколько казусов это порождает! Однако вот чем он оказывается полезен: практическими советами по ловле Снарка; из них самый, быть может, важный — пылко расточать любезности, т.е. эмоционально воздействовать на высшую нервную деятельность и тем самым на центральную нервную систему Снарка, как и сам Булочник воздействовал на гиен и медведей. Следует обратить внимание также на то, что Булочник не имеет имени, к нему обращаются междометиями, словно к животному. Может быть, разгадка в том, что Булочник — это какое-то животное? Не будем спешить, хотя животные, как видим, слишком близки ему, явно ближе, чем люди. Среди людей он вообще держится неуверенно, робко, тогда как совсем ещё недавно гулял с животными, или, иначе говоря, среди животных. Итак, наш Булочник — странный человек.
Взглянем на ещё одного члена команды. Случайно ли среди охотников присутствует настоящее животное — Бобр? Если не случайно, то вовсе ли он животное? Терпение! Он то же, что и Булочник. Сейчас разберемся.
Бобр, изволите видеть, совершенно невнушаем. В момент начала облавы он ни с того, ни с сего садится на песок и плетёт кружева из шнурков. Он, правда, иногда начинает чувствовать охотничий задор и в рьяном рвении устремляется на подвиги, опережая всех остальных (глава «Урок Бобру»), но впоследствии всё равно возвращается к первоначальному занятию и вновь перестаёт реагировать на увещания Барристера. Невнушаемость на языке психологии называется десуггестивностью. Иногда (сейчас увидим, когда) она выступает в качестве оборонительной функции — защиты от суггестии, т.е. от внушения со стороны. Более того, даже вдруг проявляющаяся двигательная активность Бобра свидетельствует о том же. Ведь сверхактивность и очень слабая активность есть две крайности одного и того же состояния защищенности от внушения. Но это ещё не всё. Вспомним факт полного подчинения Бобра Браконьеру на той стадии охоты, когда им стала угрожать отчаянная птичка Джубджуб и Бобр принялся (старательно!) отсчитывать возгласы Браконьера. Здесь уже налицо гиперсуггестивность (сверхвнушаемость), что тоже неспроста. Отметим же для себя нейропсихологические качества Бобра: асуггестивность и гиперсуггестивность, сменяющие друг друга, можно сказать — борющиеся друг с другом за обладание высшей нервной системой нашего охотника. Животные, как известно, свободны от этой борьбы. Но и сами кружева, которые плетёт Бобр, не случайны. Его кружева — это вещь в её первобытной знаковой функции. Бобр, видимо, не имеет возможности сказать: «Не тронь меня!» — он вообще никогда не разговаривает; а вот предмет он вполне способен привлечь в качестве тормозящего знака обращённых к нему команд и увещеваний.
Сделаем же предварительный вывод из рассмотренных особенностей поведения Булочника и Бобра. Первый из них — человек не человек, второй — животное не животное. А разгадка в том, что они и то и другое, и ни то, ни другое. Возможны ли такие создания в природе? Да, возможны, например дети, еще не научившиеся говорить. Или… палеоантропы, существа из эпохи детства человечества, которую, кстати, аборигены Полинезии зовут «эпохой сновидений».
Итак, предлагаю читателю взглянуть на «Охоту на Снарка» не просто как на бессмыслицу, и не как на детскую бессмыслицу, но как на «первобытную бессмыслицу» — описание той стадии пракультурного бытия наших предков, на которую палеоантропологи согласно указывают как на алогическую или дологическую. Позволю себе утверждать, что такая интерпретация поэмы не есть ещё одна интерпретация в дополнение к многочисленным прочим. Я анализирую не то, о чём хотел в ней сказать Кэррол, но что он сказал, не аллюзии и намёки на современную ему действительность, и даже не сам текст, но поведение персонажей, героев всё равно бессмыслицы ли, мифа ли, сна ли, а короче -обитателей «мира наизнанку». [Примечание. Уже после первой публикации этого опуса в одной минской газете в 1998 году и, разумеется, вне всякой связи с ним подобный метод интерпретации, а именно анализ текста как такового, а не случайных внетекстовых обстоятельств, показал свою силу под пером других авторов.]
Итак, палеолит
Ну вот, с Булочником и Бобром все ясно. Они суть существа, только-только вставшие на путь, ведущий к человеку в эпоху дивергенции палеоантропов, сиречь разделения наших животных предков на вымерших к настоящему времени троглодитидов (питекантропов, неандертальцев и проч.) и неоантропов (гоминид почти современного типа). Именно на это указывают, с одной стороны, неспособность Булочника внятно объясняться, т.е. наличие у него только самых зачатков второй сигнальной системы, а с другой стороны — нейропсихологические механизмы Бобра, защищающие его от суггестивного воздействия этой самой нарождающейся второй сигнальной системы. А Банкир? После встречи с Брандашмыгом он теряет с трудом приобретаемый иными его товарищами и самим собой дар речи и опять-таки оказывается неспособен объяснить остальным, что с ним и как он. Да, охотникам ещё так хочется отбросить прочь эту вторую сигнальную систему и начать «разговаривать» мимикой и телодвижениями. Собственно, в верхнем палеолите, у порога неоантропов, вторая сигнальная система пока отсутствовала. Общение палеоантропов было другого рода — зарождающаяся речь являлась в то время не средством передачи информации, а средством регуляции поведения тех особей, с которыми «говоривший» вступал в контакт. Слово «говоривший» беру в кавычки, ибо первобытная речь не была речью в нашем смысле, для разума она представляла бы собой ту самую «несуразицу», которую «нёс» Банкир, не передавая никакой «информации», но зато дополняя свои слова гримасами, а чтобы усилить воздействие, ещё и ударяя кастаньетами в подражание, быть может, стрекоту Брандашмыга (что можно рассматривать как эхолалию — чрезвычайно характерный симптом очень древнего происхождения).
Тут ещё следует обратить внимание, что в погоню за Снарком наши охотники отправляются куда-то далеко-далеко. И это весьма характерно для угадываемой нами в поэме эпохи становления человечества — дисперсия его по материкам и архипелагам земного шара, когда кроманьонцы за полтора-два десятка тысячелетий преодолели такие экологические перепады, такие водные и сухопутные препятствия, какие для животных были совершенно непроходимы. Отправимся же за ними и продолжим наш анализ.
Что первое обращает на себя внимание всякого читателя поэмы — так это Тройной повтор, непосредственно с которого поэма и начинается («Трижды сказано — верьте не споря!»). Хочу указать на его неслучайность в устах Боцмана. Тройной повтор заставляет вспомнить первичный нейрофизиологический механизм интердикции (и одновременно парирования интердикции). Что суть интердикция? Это высшая форма торможения рефлекторной деятельности центральной нервной системы позвоночных — преддверие второй сигнальной системы. Появление её у ископаемых высших приматов в своё время явилось первым шагом на пути к возникновению человека. Интердикция — первая в истории филогенеза человека форма общения между его ближайшими предками — последними животными. Боцман и команда — не настоящие люди, ещё не люди (или, что в нашем случае то же самое, не взрослые люди). Они лишь находятся на пороге очеловечивания (взросления). Интердикция — вот способ, которым они общаются. Не впадая в смысловую тавтологию, можно сказать, что поэма «Охота на Снарка» начинается с начала, с самого начала истории неоантропов — с интердикции. Тройной повтор, инертное, самовоспроизводящееся настаивание на своём — вот первое действие Боцмана. И этот тройной повтор впредь не раз послужит как Боцману в его убеждениях экипажа, так и противостоянию его воле со стороны членов экипажа (вспомним слова Булочника: «Повторю же опять…»).
Кто такой Снарк?
Что такое Снарк, кто он есть, — нашим охотникам не известно и не может быть известно, пока он не пойман. Правда, кого именно им следует искать, как будто всё же известно… Искать нужно того, кто на вкус хрустящ и воздушен, кто любит долго спать, кто обделён чувством юмора, кто везде таскает за собой кабинки-купальни и кто очень гордый. Это те самые пять особых примет, которые сообщил охотникам Боцман перед началом облавы. Более того. Оказывается, что представления о Снарке у охотников гораздо обширнее. Кое-что добавляет к ним Булочник, ссылаясь на своего бывалого дядю. Снарки, по его словам, есть простые, а бывают и Буджумы. Боцман притом делит Снарков ещё на два дополнительных вида — на пернатых и клюющих и на усатых и рычащих. Точно такая же ситуация обнаруживается в случае отчаянной птички Джубджуб: Браконьер мог бы рассказывать о её повадках хоть всю ночь, так и не объяснив, что такое эта Джубджуб. Это слишком ясно указывает, что такие ситуации — поиски незнакомых и невиданных объектов при наличии достаточно обширных — не знаний, нет! — разглагольствований о них — не случайны. Наоборот, именно в такого рода охотах и именно в охотах протекает жизнь в «мире наизнанку». В этом мире и должны изначально существовать одни лишь разглагольствования, т.е. одни лишь слова (в основном, в форме глаголов), ещё не несущие знаний как не имеющие значений. Описание Браконьером повадок птички Джубджуб, как и описание Боцманом повадок Снарка, в силу их бросающейся в глаза многословности — это всего только формы общения Браконьера и Боцмана со своими товарищами, но не сообщения им чего-то нового, а тем более полезного. В «мире наизнанку» нет и не может быть никаких сообщений, поскольку слова лишены значений. Эти значения ещё только предстоит найти — вот зачем (за чем) охота.
Считается, что слово Snark сложено Кэрролом из двух слов: snake (змея) и shark (акула) (предлагаются и другие пары). Но наши герои поступят наоборот. Когда-нибудь потом они разделят это слово на два, а может и на большее число — когда им понадобятся настоящие слова, много слов. Недаром спустя полстолетия после опубликования «Охоты» великий российский лингвист Николай Марр выделил четыре элемента звукового праязыка SAL, ВER, YON, ROШ, из которых, по его мнению, возник словарный запас всех языков мира.
А что касается самого Снарка, то когда наши охотники его изловят, когда выудят его из напёрстков (или ухватят его руками, одетыми в напёрстки), тогда они и узнают, что он есть. Произойдёт известное палеопсихологии «вторжение вещей». Замечу попутно, что Бобр со своими кружевами из шнурков был, вероятно, первым из охотников, кто открыл вещам путь во вторую сигнальную систему. Предвижу, что у потомков Бобра такие кружева станут фетишем. А вот Булочник все свои вещи позабыл на берегу. Не судьба. И всё-таки именно он первым изловил своего Снарка. Правда, тот оказался ещё и Буджумом, но это только ускорило уход Булочника. Изловив своего Снарка, он узнал, наконец, что означает слово «Снарк». Тогда же он немедленно и непроизвольно покинул изнаночный мир, в котором не слова называют вещи, а вещи призываются для придания значения доселе ничего не выражающим словам, и перенёсся в наш с вами лицевой мир, где все вещи уже названы теми словами, которым сами они некогда и дали значения. Наш Булочник стал человеческим ребёнком, чтобы затем стать человеком.
Все ли из команды охотников удостоятся такого будущего? Скорее всего, нет.
На кого же охотились в палеолите?
Вопреки расхожему мнению и представлениям почти всех антропологов, появившиеся на исторической арене палеоантропы не могли быть хищниками — для новых хищников на земле не было места. Впервые охотиться стал лишь человек разумный — долгое время спустя. Итак, палеоантропы ни на кого не охотились. Но…
Среди наших охотников присутствует Браконьер. То, что он именно Браконьер, выясняется уже в плаванье, когда он сам признаётся, что не Снарка, но «бобров лишь бивал». Иными словами, Браконьер бивал себе подобных — указание на имевшие место жестокие конфликты в среде поздних палеоантропов. Именно из-за этих конфликтов часть палеоантропов и вынуждена была биологически разойтись со своими сородичами и превратиться в неоантропов, то есть в людей. Оставшиеся на земле палеоантропы, как известно, вымерли. Не такова ли судьба Браконьера?
А любознательному читателю я рекомендую книгу Б. Ф. Поршнева «О начале человеческой истории», в которой подробно изложена увлекательная разгадка антропогенеза. Именно эта революционная книга подсказала мне собственный путь проникновения в суть Кэрроловского шедевра.
Два замечания в дополнение
В предисловии к другому переводу «Охоты на Снарка» (Виктора Фета) российский математик и лингвист Владимир Успенский пишет: «Что есть поэзия и в чём её цели — вряд ли всё это можно выразить ясным, исчерпывающим и убедительным образом. По крайней мере одна из целей состоит в том, чтобы на сравнительно коротком пространстве текста путём сочетания смысла и музыки слов оказать на читателя и слушателя максимальное эмоциональное воздействие. В поэме Кэррола этого достигается. Но как раз это обстоятельство делает задачу её перевода почти невыполнимой».
Не должен математик, питомец точных наук, произносить таких слов, как «вряд ли можно выразить ясным, исчерпывающим и убедительным образом». Разумеется, можно.
Что есть поэзия и в чём её цели, знал, например, автор работы по поэтике Аристотель; знал изучивший Аристотеля Алексей Лосев, знал отец Павел Флоренский, занимавшийся этим вопросом специально; знал практический поэт Джон Китс. Мнения первых трёх схожи, мнение последнего интересно раскрытием других сторон предмета, я его приведу: «Первое: я думаю, что поэзия должна изумлять прекрасным избытком, но отнюдь не странностью; она должна поражать читателя воплощением его собственных возвышенных мыслей и казаться почти что воспоминанием. Второе: проявлениям её красоты нельзя быть половинчатым — захватывать у читателя дух, но оставлять его неудовлетворённым…» (Цитирую письмо к Джону Тейлору в переводе С. Сухарева по изданию: Джон Китс. Стихотворения. Л., «Наука», 1986, с. 219. Курсив мой — вообще говоря, зуд интерпретации можно психологически вывести отсюда. В настоящем опусе я постарался объяснить странности, подтвердить воспоминания и развеять читательское недоумение.)
Но и я, сам для себя, нашёл хорошее определение поэзии. Во-первых, поэзия — это отнюдь не мышление образами, как внушали нам в школе, как повторяет в своей книге Вадим Кожинов. Как мыслит отдельный человек, образами или как-то по-иному, это его личное дело, которое не может стать достоянием науки, пока он не выскажется. А вот высказаться каждый может либо поэтично, либо как хочет. Очевидно, что поэзия — это тип речи. Какой же это тип? Очевидно, такой, в котором используются какие-то особые средства выражения. Какие же? Итак, поэзия — это речь с использованием средств выражения самой высокой степени конкретности. В чём же проявляется конкретность поэзии?
Наивысшей конкретностью в нашем мире обладают только зримые вещи. Иными словами, подлинный поэт пишет словно бы не словами, а вещами, и поэзия как таковая возвращает беглеца-человека в мир вещей. Ибо человек давным-давно живёт холодной суматошной жизнью среди знаков и символов, забыв дом своего детства — мир вещей. И поэзия прекрасна и так эмоционально действенна потому, что дом детства всегда прекрасен, а само детство — не от мира сего. Помимо детства прекрасна ещё Любовь, но и о ней не скажешь иначе, чем через кровь (это по-русски, другие языки используют, соответственно, другие предметы или действия над предметами, как в английском языке глагол move для существительного love) или нечто очень к ней близкое, то же сердце, например.
А ведь человек вынужден, причём самой своей человеческой природой, большую часть своей жизни проживать в царстве знаков и пользуясь знаками. Например, денежными — и это, пожалуй, самые неизбежные знаки жизни современного человека. Для кого-то эти знаки не менее притягательны и прекрасны, чем Любовь. Но «цель поэзии» (возвращаюсь к цитате из Владимира Успенского) как раз в том и состоит, чтобы показать нам наше прекрасное ВООЧЬЮ. Даже деньги: ничто не может, не в состоянии быть исключением.
Четверостишие современного поэта. Первая строка:
У меня в кармане осень.
Где же тут зримая конкретность? — спросит читатель. Скорее, несуразица! Но подождите, какая-то конкретизация появляется в следующей строке:
Как в лесу: легко и пусто.
Это всего-навсего остроумно, но дальше — больше: читатель получает товар лицом:
У меня в кармане просинь:
Листик с мордочкою грустной.
Этот листик просинью в кармане — и есть деньги. Только не как денежный знак, а, повторяю, купюра воочью. (Поэт Олег Чухно, цит. по: «Литературная газета», №1, 2005.)
Есть, правда, и другие стихи, словно бы противоположные:
На воздушном океане
Без руля и без ветрил
Мягко плавают в тумане
Хоры дружные светил.
По поводу этих Лермонтовских строк было замечено, что если пытаться описанную картину вообразить, свихнуться можно. Однако и этот пример не противоречит сказанному выше. Ведь Лермонтов прямо нас предупреждает против попыток мысленного воспроизведения такой картины: плавают-то они плавают, но без руля и без ветрил, то есть не по-зримому. Так что и здесь присутствует самая настоящая конкретность — правда, с обратным знаком.
Разумеется, технические руководства тоже пишутся максимально конкретным языком, а поэзией не являются и поэтическим целям не служат. Дело в том, что поэтические представления, выраженные словесно, в стихотворной или иной поэтической форме, сопровождаются одним уже чисто литературным феноменом, неоднократно если не описанным, то упомянутым — приблизительностью, расплывчатостью своего конкретного содержания. Этим поэтическая речь отличается от технической, когда сказано только то, что сказано, и от научной, когда зачастую вообще ничего не сказано.
Что же касается последнего предложения цитаты из Успенского, то моё мнение таково: как только «Охота на Снарка» оказалась написана по-английски, она немедленно обрела существование во всех языках, только требует вскрытия.
____________________________________________________
***
<<< пред. | СОДЕРЖАНИЕ |