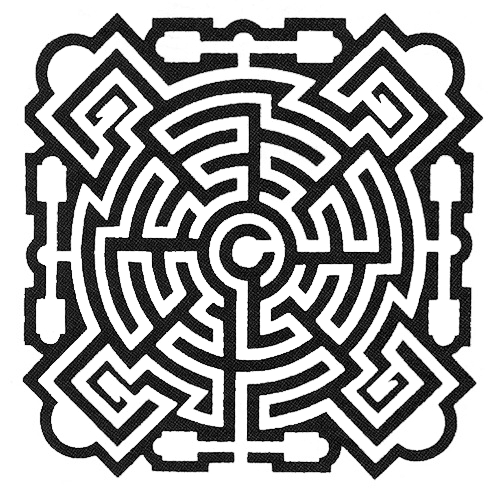Рубрика «Список переводчиков Льюиса Кэрролла»
Матвеев, Михаил Львович — Математик, IT- специалист, переводчик с английского. Автор перевода поэм Л. Кэрролла «Охота на Снарка» и «Фантасмагория».
***
Михаил Матвеев о себе:
Родился 21 августа 1958 года в городе Рыбинске.
В 1975 году поступил на матмех ЛГУ. С тех пор живу в Ленинграде — Петербурге.
Закончив университет, работаю программистом. Женат. Имею взрослую дочь.
Занимаюсь стихотворными переводами Л. Кэрролла, Т. Гуда, О. Уайльда, некоторые из них опубликованы в журналах «Детская литература», «Кукумбер», альманахе «Летчики счастья».
Пишу стихи, которых набралось уже на целый сборник с названием «Эскалатор».
***
Нина Демурова «Беседы о Льюисе Кэрролле»
(Фрагменты книги «Картинки и разговоры»):
На московской конференции 1998 года, посвященной 100-летию смерти Кэрролла, петербуржец Михаил Львович Матвеев читал свои переводы кэрролловских стихов. В Библиотеке иностранной литературы на Николоямской, где проходила конференция, было много народа. Переводы имели успех: люди смеялись, подходили к Михаилу Матвееву с вопросами… Мы познакомились. Позже я узнала, что он математик.
Время от времени Михаил Матвеев присылает мне из Петербурга свои новые переводы. Он работает раздумчиво, не торопясь. Прислал перевод «Снарка» и уже совсем недавно — «Восемь-девять мудрых слов о том, как переводить «Снарка» (отзвук сочинения Кэрролла «Восемь-девять мудрых слов о том, как писать письма»). Я пригласила Михаила Матвеева принять участие в этой книге. Он ответил согласием. Началась переписка, телефонные разговоры, обсуждения…Теперь читателю представляется возможность познакомиться с нашими беседами.
Михаил Матвеев. …Конечно, я тоже прекрасно помню эту конференцию. Она явилась для меня первым, самым ярким и практически единственным актом признания моих переводческих опытов.
С Кэрроллом меня связывали очень давние отношения. Сейчас я даже думаю, что интерес к Кэрроллу присутствовал во мне всегда, а точнее, со школьных, видимо, времен, когда я читал журналы «Квант», «Знание — сила», где печатались статьи М. Гарднера, Ю. Данилова. Примерами из Кэрролла иллюстрировались задачи, да и задачи самого Льюиса Кэрролла, я думаю, там тоже были.
Мое же обращение к Кэрроллу произошло гораздо позднее, когда в сознательном уже возрасте, прочитав «Алису» в вашем, Нина Михайловна, переводе, я задался детским, но всегда актуальным для меня вопросом: «Как же это сделано?» (Правда, в моем случае он относится исключительно к идеальным сущностям — мне никогда не хотелось разобрать, например, будильник. А вот в таком бы я покопался[14].) Этот вопрос и вынудил меня обратиться к английскому тексту. Я не собирался переводить, я только хотел сравнить. Но в английской книжке оказалась не только «Алиса», но и «Снарк», и «Фантасмагория», и другие стихи Кэрролла, которые сравнить мне было не с чем. Поэтому я попытался разобраться в них самостоятельно, а стало быть, их надо было перевести.
Почему именно Кэрролл? Вероятно, именно по отношению к нему вопрос «Как же это сделано?» оказался наиболее сильным побудительным мотивом.
Нина Демурова. Вы, как и Кэрролл, математик, и к тому же математик, который любит поэзию и пишет стихи. Расскажите немного о себе, о своих стихах. Кто ваши любимые поэты?
М. М. Я по образованию математик, немного преподавал, но работал все время, да и сейчас работаю программистом.
Стихи, грешен, пишу и писал всегда. Мои взаимоотношения с поэзией и поэтами вряд ли можно охарактеризовать одним-единственным глаголом — люблю. Люблю я, наверное, те стихи, которые мне доставляет удовольствие произносить, можно даже подобрать более сильное слово — скандировать. Это, конечно, не совсем то, что я делаю, артикулируя их, но очень, пожалуй, близко по смыслу. В этом смысле Маяковский и Вознесенский — мои самые любимые поэты и самая давняя привязанность.
Тютчева я никогда не произносил вслух, но его я тоже люблю, или ценю, или воздаю должное долго, спокойно и терпеливо. Но это уже совсем другое чувство.
В поэзии я, видать, не однолюб. Как правило, я нахожусь в состоянии влюбленности, если уж использовать однокоренные слова. В разное время я увлекался, например, обэриутами, Северяниным, Хлебниковым, японскими классическими размерами, Олегом Григорьевым, Геннадием Айги и так далее. Я, наверное, эклектичен, всеяден и неразборчив.
Сейчас я пребываю в состоянии увлеченности (рискованное заявление) Мишелем Уэльбеком (именно его стихами, а не «Элементарными частицами») и Джузеппе Джоакино Белли. Так вот получилось, спасибо «Иностранке»[15].
Плохо знаю, вернее, совсем не знаю современную, самую современную русскую поэзию.
К английской поэзии я применил бы глагол — интригует. Меня интригует Кэрролл, интригует до сих пор, несмотря на то, что я, казалось бы, нашел ответы на многие интересовавшие меня вопросы. Меня интригует Уайльд: почему в стихах он совершенно, как мне кажется, не такой, как в пьесах, я даже досадую по этому поводу. Меня интригует Томас Гуд в том же смысле, что и Диккенс: как уживается в его творчестве отчетливая социальная направленность с формальными, игровыми, пародийными изысками, которые так пугали в школьные годы незабвенного Берти Вустера из романов П. Г. Вудхауса. Стихи Вудхауса меня тоже интригуют, но не так сильно.
А вот А. А. Милн — очень мил.
Меня интригует… нет, не интригует — Огден Нэш, с Нэшем у меня сложились совершенно особые отношения. Нэш и его переводчик И. Комарова дали мне форму для всего того, что я хотел бы высказать в стихах или в прозе, но никак не получалось. Теперь у меня есть цикл стихотворений «Дурные бесконечности», вдохновленный Огденом Нэшем. Так что мою любовь к Нэшу, скажем так, нельзя назвать платонической.
Нэша я тоже люблю произносить, если есть слушатели. Но нет, не скандировать.
Мои собственные стихи по большей части, вынужден признать, это некие вехи, обозначающие периоды увлеченности теми или иными поэтами, которые я пережил, это дань, приношение тем поэтам. Я их так читал.
Н. Д. Кстати, я сейчас заметила, что среди переводчиков стихотворного наследия Кэрролла немало представителей точных и естественных наук. Вы и покойный Иосиф Моисеевич Липкин, переводчик «Охоты на Снарка», — математики, Григорий Кружков — физик (по первой специальности), Виктор Фет — зоолог. Это можно как-то объяснить?
М. М. Да, я думаю, попытаться можно, можно даже высказать несколько версий. Вопрос лишь в том, в каком отношении к истине они находятся.
Во-первых, перевод Кэрролла — это вовсе не филологическое занятие, а некие лингвистические штудии, а лингвистика, берусь утверждать, это совершенно точная и в высшей степени естественная наука. Задача перевода применительно к Кэрроллу — именно задача, и задача в значительной мере формализованная (возможно, такое утверждение применимо к стихотворному переводу вообще, но неприменимо к прозе). Известны те начальные условия, которым решение задачи должно удовлетворить. Задача эта, безусловно, чрезвычайно сложная, но тем она и интересна, и нам ли бояться сложных задач? Я убежден, что задача эта имеет решение, не единственное конечно, но я далек от мысли, что его уже удалось найти, однако хочется думать, что существуют, если говорить о «Снарке», вполне сносные приближения.
Во-вторых, интерес к Кэрроллу с нашей стороны оправдан содержащимися в его текстах семантическими парадоксами и всем его естественно-научным естеством. Ведь интересно же узнать, как и зачем Кэрролл вмещал их в ограниченное пространство стихотворного метра. Он ведь тоже решал какую-то задачу, или скорее всего формулировал ее. Это вызов.
В-третьих, в конце концов, перевод Кэрролла — это интеллектуальные каникулы.
Н. Д. Когда вы познакомились с произведениями Кэрролла? Должно быть, в первую очередь прочли его сказки об Алисе?
М. М. Историю моего знакомства с Кэрроллом я уже частично рассказал, отвечая на первый вопрос. Хотя история эта туманна и может быть восстановлена не только по воспоминаниям, но и по воспоминаниям о воспоминаниях с привлечением документальных свидетельств.
Я совершенно не помню, чтобы в детстве я читал или родители мне читали сказки об Алисе. Хотя книжка у нас точно была, но что это было за издание, я не помню. Поэтому все-таки я думаю, что с Кэрроллом меня познакомил Мартин Гарднер. И первая книга Кэрролла, которую я прочитал, была «Символическая логика». Во всяком случае, «Символическую логику» я точно прочитал, еще учась в школе.
Сказки об Алисе я осознанно прочитал не ранее 1982 года, потому что книга именно этого года издания, вся развалившаяся по листочкам, хранится у меня дома. Я ее выменял, была тогда такая форма приобретения книг. Это было издание, перепечатанное с «Литературных памятников» в вашем переводе и с примечаниями Мартина Гарднера. Вот его-то я и прочел жадно, от корки до корки. Примечания, помню, восхитили меня не меньше самого текста.
Н. Д. Помнится, вы говорили, что читали «Алису» своей дочке. Как она реагировала?
М. М. В то время дочь моя была еще маловата, и «Алису» я ей читал позднее. Она, помню, смеялась в некоторых местах, думаю, что, например, в таких: «А то я боюсь совсем упасть духом, — говорит Рыцарь… Опять упал… Но только не духом, а, как всегда, головой, — думает Алиса». Или: «Сядем на Минутку? И это ты называешь добротой?»
Задавала много вопросов, думаю, в таких местах:
— Что ты знаешь об этом деле?
— Ничего…
— Совсем ничего?
— Совсем ничего.
— Это очень важно.
Я помню высказывание восьмилетней Наташи: «Все слова, которые можно произнести, существуют», за коим следует труднопроизносимый и трудновоспроизводимый набор звуков. Можно себе представить, что относится оно ко времени ее знакомства с «Алисой». Бармаглота мы, должно быть, скандировали.
Когда я сегодня ее спрашиваю, как тебе «Алиса», она говорит, что книга ей понравилась. Скупо.
Сейчас Наташе 25 лет — настало время «Алису» перечитать.
Н. Д. Когда вы решились переводить стихи Кэрролла? Что вы скажете о них? Ведь они очень разные, правда?
М. М. Итак, переводом «Алисы» я восхитился, примечаниями восхитился, через несколько лет я купил английское издание, и оказалось, что Кэрролл — автор многих других произведений, помимо сказок об Алисе и «Снарка». «Снарка» в переводе Кружкова я к тому времени тоже уже прочел.
Вот тут-то я и решился.
Начал я с небольших его стихотворений, затем отважился взяться за «Фантасмагорию», долго не решался приступить к «Снарку», но все же решился. Вероятно, к тому времени я уже перевел все, что мог перевести, а переводить Кэрролла уже вошло в привычку.
Стихи Кэрролла действительно очень разные. Но многие все-таки виртуозные, в каждом есть какая-нибудь находка, загадка, подвох. Они, как правило, смешны, ироничны в такой особой кэрролловской манере. Например, в стихотворении, адресованном одной из его юных корреспонденток, некой Мэгги по случаю посещения ею Оксфорда, Кэрролл описывает, как дети на стенах Модлин-колледжа увидели лицо со страшным оскалом и принялись тянуть вверх уголки губ, чтобы превратить ужаснувший их оскал в улыбку. При этом Мэгги рассуждает, что хорошо, если рядом с тобой всегда есть кто-то, кто поможет тебе улыбнуться. Трогательно и забавно.
Конечно, эти стихи несравнимы со «Снарком», но тем не менее «Фантасмагория» мне представляется довольно интересным произведением. Есть у Кэрролла и сентиментальные стихи. Но вот что меня удивляет — в них он не использует ни игры слов, ни иронии, ни даже самоиронии, хотя и Диккенс, и Томас Гуд успешно сочетали в своих произведениях и то, и другое. Интересно, как Кэрролл относился к Томасу Гуду.
Н. Д. С какими трудностями сталкиваешься, переводя стихотворения такого автора, как Кэрролл? Чем это обусловлено?
М. М. Трудностей при переводе стихотворений Кэрролла возникает, конечно, множество. Чего только стоит находить и в переводе по возможности компенсировать игру слов.
Но основная и непреодолимая, на мой взгляд, трудность состоит в том, чтобы обнаружить весь присутствующий в стихах Кэрролла литературный викторианский фон. Все пародии, заимствования, подражания, явные и неявные ссылки. Ведь даже если удастся все это обнаружить, но оно никак не представлено в нашем литературном ландшафте (не переведено или переведено, но текст перевода не стал, скажем так, каноническим), то это ничем не удастся компенсировать.
Поэтому необходимо стараться переводить, не впадая при этом в архаизацию, хотя бы так, чтобы непредубежденный, но подготовленный читатель сумел безошибочно поместить переведенный текст в викторианскую Англию.
Замечательно, когда Кэрролл пародирует, например, «Гайавату», никак это не камуфлируя, а у нас имеется классический перевод И. Бунина — но это, пожалуй, единственный и неповторимый случай.
Вот такая непреодолимая трудность. Утешает только то, что раз она непреодолима, то и не надо ее преодолевать, а значит, она и не трудность вовсе.
Есть и локальные трудности. Например, так и остается загадкой, почему все-таки имена всех персонажей «Снарка» начинаются с буквы «Б». А это ведь очень важно. Однако удовлетворительного ответа я не имею.
Но… самая большая трудность — это английский язык.
Н. Д. Ваши любимые стихи Кэрролла?
М. М. Мое любимое стихотворение Кэрролла, конечно, «Бармаглот». Совсем неоригинальное утверждение. Мне бы очень хотелось попробовать его перевести. Но теперь это совершенно невозможно. «Варкалось. Хливкие шорьки…» из моей головы уже никуда не денутся. И ничем не дадут себя заместить.
Я очень люблю «Фантасмагорию», прикипел я к ней. Возможно, я пристрастен. Все-таки это мой первый переводческий опыт. «Фантасмагория» очень нравится моей жене, а она критик строгий. Мне даже кажется, что «Фантасмагория» незаслуженно обделена вниманием критиков и переводчиков.
Н. Д. Как вы думаете, чем объясняется популярность Кэрролла в России?
М. М. Видимо, можно найти тому несколько причин. Можно пофантазировать.
Во-первых, вероятнее всего, это можно объяснить тем, что Кэрролл заполняет собой пустующую нишу в нашей литературе. Он привносит с собой интеллектуальное, рассудочное, игровое начало, когда все придумано, изобретено, сконструировано. В этом смысле его популярность сродни популярности у нас Конан Дойла. Нет у нас интеллектуального, без глубоких и мучительных рефлексий детектива, детектива-задачки. Так же, как нет юмора на уровне словообразования. Юмор есть, эксперименты со словом есть, а вот юмора в них — нет, а такой юмор оказывается отчасти самоиронией. Я вот, дескать, экспериментирую, так что не принимайте меня слишком всерьез, возьмем все что угодно, но отнесемся к нему чуть-чуть не всерьез. (Тотсамый understatement[16]?) А Кэрролл дает нам такой чистый, ничем не запятнанный нонсенс, к которому мы оказываемся очень чутки. (Придаточное добавлено на тот случай, если окажется, что в каких-то литературах названная ниша пуста, а Кэрролл все-таки не столь популярен, как в России.)
Еще интереснее рассмотреть этот вопрос не с позиции сегодняшнего дня, а на временной шкале. И вот что получится. В то время как Кэрролл в Англии размышляет или готовится размышлять о «Cнарке», Николай Алексеевич Некрасов в России издает «Деда Мазая и зайцев». Сравнительный анализ этих двух произведений может оказаться весьма поучительным.
Во-вторых, многое для популяризации Кэрролла в России сделала наука. Кэрролл, я думаю, часто цитировался представителями точных наук, так же как часто цитировались авторы, часто цитировавшие Кэрролла. А поскольку «физики» в свое время были, как известно, «в почете», то они и поделились частью собственной популярности со своим протеже.
И в-третьих, вот еще какое неоднозначное соображение. То ли Кэрролл так популярен, потому что его так много переводили, то ли его так много переводили, потому что он так популярен. Думаю, что верно и то, и другое. Своеобразный эффект «снежного кома». Но несомненно одно — Кэрролл располагает к тому, чтобы его переводили. Он раззадоривает, дразнит своих потенциальных переводчиков сложностью задачи, как бы предлагая померяться с ним силами. Популярность Кэрролла в этом случае сродни популярности проблемы вечного двигателя и теоремы Ферма.
Н. Д. Когда переводишь какого-то автора, обычно особенно чувствуешь, что за человек он был. Что бы вы сказали о Кэрролле?
М. М. На первый взгляд кажется, что Кэрролл конструирует некую мембрану иронии и самоиронии между собой и читателем, но на поверку оказывается, что мембрана эта проницаема.
В своих стихах Кэрролл предстает очень одиноким и остро ощущающим свое одиночество человеком. «Фантасмагорию» я воспринимаю как поэму об одиночестве и невозможности это одиночество преодолеть. Вроде бы является к автору привиденьице, и их беседы, ссоры, склоки и даже драка явно скрашивают одиночество писателя, но мало того, что гость — всего лишь наваждение, фантасмагория, фантом, он еще, оказывается, забрел не по тому адресу. Позволю себе привести концовку поэмы:
Не мог слезами я вернуть
Фантома, а иначе
Мне оставался скорбный путь —
Налив стаканчик, затянуть
Такую Песню Плача:«Ушел мой призрак, мой кумир!
Где ты, мой друг дражайший?
Какого духа прерван пир!
Прощайте, тосты, джем и сыр,
Мой чай, прощай, крепчайший!Жизнь безотрадна и скучна,
Стакан последний выпит.
Уже испита грусть до дна.
Вернись скорее, старина!
Мой Параллелепипед!»Не стал слагать я новых строф,
Утешившись вполне тем,
Что после столь роскошных слов
Нельзя найти в конце концов
Слов, даже равных этим.С тех пор скучал я о былом,
Одну мечту лелея,
Что дружно явятся в мой дом
И Эльф, и Гоблин, и Фантом,
И Полтергейст, и Фея.Но нет, не скрасил мой досуг
Дух ни одной породы…
Лишь эхом трогательный звук:
«Головотяп, прощай, мой друг!» —
Звучал все эти годы.
Казалось бы, общество надоедливого Фантома тяготит автора, но в конце — почти не прикрытая спасительной иронией грусть.
Кажется, что Кэрролл опасается общения, боится привязанностей, но в то же время их ему недостает. Свое «Послание ко дню св. Валентина» он предваряет таким посвящением: «Другу, который выражал неудовольствие тем, что я был недостаточно рад его видеть, когда он навестил меня и ему показалось, что я не огорчился бы, если бы он не приходил вовсе».
И в наибольшей степени его боязнь общения относится к женщинам. Он постоянно иронизирует над ними: в «Меланхолетте» — над их капризами, над их пугающей склонностью к меланхолии, в «Аталанте в Кэмдентауне» — над их непостоянством и коварством. Но ведь пишет же о них.
Может быть, мое впечатление ложно, но Кэрролл представляется мне именно таким — затворившимся в искусственно созданной келье, из которой хотел бы выйти, но остерегается, хотел бы впустить к себе, но боится, что его потревожат, разрушат его мир, будут приставать с разговорами, требовать внимания, участия, бурного выражения чувств, разбросают его вещи и набросают своих, и не дай бог — булавок и шляпок. И это противоречие, как бы ни хотелось употреблять сильных глаголов по отношению к Кэрроллу, терзает его.
Н. Д. Назовите вашу любимую цитату из Кэрролла. Вообще, вы его часто цитируете?
М. М. В обиходе Кэрролла я цитирую редко, можно сказать, почти никогда. Так что я совсем не похож на пресловутого студента, который утверждал, что у него на каждый случай всегда наготове цитата из «Снарка». Однако могу предположить, что если бы я писал множество статей, пусть на самые различные темы, то всегда бы нашлась и у меня цитата из Кэрролла, которая бы мне пригодилась. Мне кажется, что кэрролловские афоризмы лучше выглядят на бумаге. Но вот беда — я не пишу статей.
Я не рискну назвать одну-единственную, любимую цитату. Их много, они выписаны у меня на отдельные карточки, потому что однажды я даже хотел сконструировать нечто, используя кэрролловские цитаты. Тому, что должно было получиться, в качестве эпиграфа я хотел предпослать следующее утверждение: «Следует различать пустое множество и множество, состоящее из пустого множества»[18]. Конечно, следует. Но дело в том, что это цитата из учебника математики для IV класса 80-х годов. Это ли не Кэрролл?! Поэтому моя жена часто, в отличие от меня, использует цитаты из Кэрролла, преподавая математику своим пяти-, шести-, семи- и уж не знаю, сколько еще дальше, -классникам.
А моя любимая цитата? Ну, не знаю. Моя любимая, наверное, все же: «…думай о смысле, а слова придут сами!» Вот о ней я и думал, отвечая на вопросы. О смысле, конечно, тоже.
Автор и координатор проекта «ЗАЗЕРКАЛЬЕ им. Л. Кэрролла» — Сергей Курий