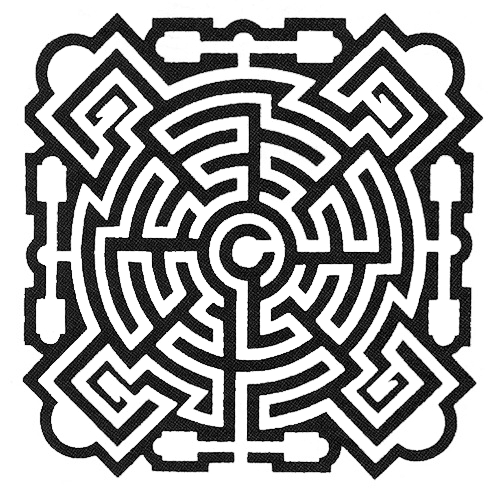Граф Хвостов — «король графоманов».
Автор статьи: Сергей Курий
Рубрика «Прочие статьи»
«— Ведь судьба-то моя какова! Даже стихи перестал писать…
Написал только одно стихотворение, как Гоголь
«Последнюю Повесть», помните, еще он возвещал России,
что она «выпелась» из груди его. Так и я, пропел и баста.
— Какое же стихотворение?
— «В случае, если б она сломала ногу»!
— Что-о?»
(Ф. М. Достоевский «Бесы»)
Песни невинности
Настоящему любителю поэзии всегда нелегко. Когда «золотые» и «серебряные» имена классиков зачитаны до дыр, поневоле приходится время от времени просматривать журнальные публикации и сборники стихов поэтов-неофитов. А вдруг объявится новый талант? Конечно, «не всем быть Байронами», поэтому подавляющее большинство произведений «младых» поэтов откровенно нагоняет скуку. И тут среди однообразных завываний, вроде
Все мимолетно и так скоротечно,
По небу мчатся стремглав облака.
Только Любви мгновение вечно,
Оно к нам приходит как луч свысока…
внезапно вздрагиваешь от строк
И целуй меня везде,
Восемнадцать мне уже…
И так становится весело от этой самоупоенной безграмотности, этого самоуверенного бреда, что порою невольно думаешь: «Лучше уж так плохо, чем просто НИКАК!». Есть определенная доля отрады сердцу любителя словесности в безумных нелепых строках. Вспомните, как «согревал» мрачную атмосферу «Бесов» Достоевского незабвенный капитан Лебядкин — грубиян, пошляк и… пиит:
Краса красот сломала член,
И интересней вдвое стала,
И вдвое сделался влюблен
Влюбленный уж немало.
Но это все-таки пародирование, а пародирование, даже талантливое, все-таки лишено ореола «невинности», искренности, истинности. Да-да, чтобы создать образчик совершенной дурновкусицы тоже нужны эти качества.
Графоманию обычно определяют как «страсть к бесплодному сочинительству». Как бы не так! Графоманы как раз очень плодовиты, не только в плане количества написанного, но и в количестве изданного. Графомания — это и есть упорное стремление автора навязать свои творения слушателям и читателям. Стремление на грани одержимости, его не могут остановить ни безразличие слушателей, ни насмешки критиков, ни пылящиеся в кладовке тысячные тиражи своих «фолиантов», так и не нашедшие признания у неблагодарных современников.
Как и у любого массового явления, у графоманов есть свои «звезды». Но для того, чтобы стать «звездой» на графоманском поприще, недостаточно просто плохо писать стихи. Нужно, чтобы безграмотность и «наглость» этих стихов доходила до степени гениальности, чтобы сам автор был в этой гениальности убежден. Еще нужен максимум усилий, чтобы стихи просто заметило поэтическое окружение. Да и самому графоману не мешало бы быть одновременно и заметной, и забавной личностью.
Всем этим требованиям отвечал Дмитрий Иванович Хвостов — герой бесчисленного множества эпиграмм и анекдотов, признанный еще при жизни настоящим «королем графоманов».
Граф
«Вам с Байроном шипела злоба,
Гремела и правдива лесть.
Он лорд — граф ты! Поэты оба!
Се, мнится, явно сходство есть».
(А. С. Пушкин «Ода его сият. гр.Хвостову»)
В самой карьере графа Хвостова есть немало комичного. Хотя он и был достаточно богат, но к потомственным «графьям» не принадлежал. Начало биографии нашего героя довольно традиционно: родился (в 1757 г.), учился (в Московском университете), служил (в Преображенском полку, откуда вышел в 1779 г. подпоручиком). Пожив какое-то время в идиллической тиши своей деревеньки на реке Кубре,[1] «беспокойный» Хвостов перебирается в Петербург и поступает на госслужбу, а в 1785 г. избирается членом Российской академии.
В 35-летнем возрасте он наконец-то женится… И вот тут-то кривая судьбы нашего героя со стремительностью гиперболы резко забирает вверх. Дело в том, что он женится на Аграфене Ивановне Горчаковой — племяннице самого Суворова. Хвостова тут же производят в подполковники и назначают состоять при знаменитом полководце. Суворов так прикипел сердцем к незадачливому стихотворцу, что приложил немало усилий для карьеры своего нового родственника. В 1795 г. Екатерина II даже жалует Хвостову звание камер-юнкера 5-го класса, что давало повышение в чине.
Обычно такое звание присваивалось молодым людям, а нашему герою в то время было, ни много, ни мало, 38 лет. По легенде, когда Екатерину стали упрекать в подобном камерюнкерстве, императрица сказала, что она ни в чем не может отказать Суворову, и если бы он ее попросил, она бы сделала Хвостова и камер-фрейлиною.
В 1797-1803 гг. Хвостов уже состоит обер-прокурором синода. Правда, с воцарением Павла Суворов периодически попадает в опалу, что начинает сказываться и на Хвостове. Вот тут-то и пригодилось поэтическое хобби: Хвостов пишет оду на принятие императором звания магистра мальтийского ордена, чем возвращает себе расположение Высочайшей особы.
Кстати, многие другие, не шибко искушенные в поэзии особы, относились к творениям Хвостова более, чем благосклонно. Генерал-губернатор Петербурга Милорадович, после воспетого графом строившегося под его руководством Екатерингофского парка, даже приказал повесить на вечные времена портрет поэта в зале вокзала. Портрет с надписью «Се Катрингофа Бард» долго украшал возведенную в парке ротонду.
В 1802 г. Хвостову (наконец-то!) разрешили принять графский титул, пожалованный ему в 1799 г. сардинским королем (выпрошенный, естественно, Суворовым во время Итальянской кампании).
Безусловно, столь стремительное возвышение (тем более, благодаря лишь родству с Суворовым) породило в свете огромное множество завистников. Хвостова не любили, писали, что он «внешностью подл», неуклюж и даже «вельми вонюч». Но самой превосходной мишенью для язвительных шуток стало безудержное увлечение «новообращенного» графа пиитством.
Графоман
«То изломаю ямб, то рифму зацеплю,
То ровно пополам стиха не разделю,
То, за отборными гоняяся словами,
Покрою мысль мою густыми облаками;
Однако муз люблю на лире величать;
Люблю писать стихи и отдавать в печать!»
(Д. И. Хвостов «Ивану Ивановичу Дмитриеву»)
Не каждому суждено стать графоманом. Для этого необходимо не только «духовное мужество», но и материальный достаток. А ну-ка, попробуйте настойчиво издавать произведения, которые никому не нужны! Тут требуется недюжинная энергия и немалые средства.
Хвостову ни того, ни другого было не занимать. Ну и что, что его семитомные произведения никак не хотели продаваться? Это не помешало им выдержать при жизни графа целых три издания![2]Хвостов сам обеспечивал «спрос» на свои публикации. Во-первых, он неутомимо рассылал свои книги — всем, кому мог, и раздавал — где только мог.
Когда хоронили Н.И. Гнедича, граф во время отпевания и панихиды раздавал свои стихи, написанные в память покойного, и разговаривал во весь голос. В конце службы Крылов (по свидетельству П.А. Плетнева) сказал ему: «Вас было слышнее, чем Евангелие!».

Дмитрий Иванович Хвостов (1757-1835).
Тома хвостовской поэзии получали архиереи и митрополиты, такие государственные деятели, как Аракчеев и Паскевич, и даже сам прусский король. Однако наиболее лакомым кусочком для графомана были учереждения — здесь он мог поистине развернуться. Так, Академия наук получила от него «в дар» 900 экземпляров трагедии «Андромаха». Мало того: убежденный в своем «призвании» граф рассылал не только стихи, но и свои… бюсты! О том, что он был, к тому же, навязчивым чтецом своих творений, и говорить не стоит.
В литературных кругах бытовал один характерный анекдот. Однажды в Петербурге граф Хвостов долго мучил у себя на дому племянника своего Ф. Ф. Кокошкина (известного писателя) чтением ему вслух бесчисленного множества своих виршей. Наконец, Кокошкин не вытерпел и сказал ему:
— Извините, дядюшка, я дал слово обедать, мне пора! Боюсь, что опоздаю, а я пешком! — Что же ты мне давно не сказал, любезный! —отвечал граф Хвостов. — У меня всегда готова карета, я тебя подвезу!
Но только что они сели в карету, граф Хвостов выглянул в окно и закричал кучеру: «Ступай шагом!», а сам поднял стекло кареты, вынул из кармана тетрадь и принялся снова душить чтением несчастного запертого Кокошкина.
А вот ещё анекдот.
Карамзин и Дмитриев всегда получали в подарок от Хвостова его стихотворные опусы. Отвечать похвалою, они не могли, молчать было бы невежливо. Карамзин «выкрутился», послав Хвостову следующий двусмысленный отзыв: «Пишите! Пишите! Учите наших авторов, как должно писать!». Дмитриев же укорял его, говоря, что такое послание одни сочтут за чистую правду, другие — за лесть.
— А как же ты пишешь? — спросил Карамзин.
— Я пишу очень просто. Он пришлет ко мне оду или басню, я отвечаю ему: «Ваша ода или басня, ни в чем не уступает старшим сестрам своим!». Он и доволен, а между тем это правда.
Из книги Ю. Тынянова «Пушкин»:
«Граф Хвостов был замечательное лицо в литературной войне. Среди друзей Карамзина, особенно молодых, были люди, которые как бы состояли при Хвостове, только им и жили, и с утра до вечера ездили по гостиным рассказывать новости о Хвостове…
В стихах своих граф был не только бездарен, но и смел беспредельно. Он был убежден, что он единственный русский стихотворец с талантом, а все прочие заблуждаются… У него была одна страсть — честолюбие, и он бескорыстно, разоряясь, ей служил. Говорили, что на почтовых станциях он, в ожидании лошадей, читал станционным смотрителям свои стихи, и они тотчас давали ему лошадей. Многие, уходя из гостей, где бывал граф Хвостов, находили в карманах сочинения графа, сунутые им или его лакеем. Он щедро оплачивал хвалебные о себе статьи.
Он забрасывал все журналы и альманахи своими стихами, и у литераторов выработался особый язык с ним, не эзоповский, а прямо хвостовский — вежливый до издевательства. Карамзин, которому Хвостов каждый месяц присылал стихи для журнала, не помещал их, но вежливо ему отвечал: «Ваше сиятельство, милостивый государь! Ваше письмо с приложением получил» и т. д. «Приложением» называл он стихи графа.
В морском собрании в Петербурге стоял бюст графа. Бюст был несколько приукрашен: у графа было длинное лицо с мясистым носом, у бюста же были черты прямо античные. Слава его докатилась до провинции. Лубочная карикатура, изображающая стихотворца, читающего стихи черту, причем черт пытается бежать, а стихотворец удерживает его за хвост, висела во многих почтовых станциях».
Насмешки Хвостов встречал с истинной невозмутимостью «гения». Мол, потомки меня еще оценят. Впрочем, тому же Хвостову принадлежат и следующие мудрые строки:
«Потомства не страшись
— Его ты не увидишь!».
Да и льстецов графу хватало ещё при жизни. Безусловно, большинство из них интересовало не столько творчество поэта, сколько его меценатские возможности. Наивный Хвостов постоянно организовывал какие-то журналы, что, вкупе с безвозмездным изданием книг и рассылкой бюстов, вконец расстроило его состояние.
Острые языки говорили, что перед кончиной Суворов умолял находящегося подле него графа, чтобы тот бросил писать стихи. Когда же Хвостова спросили, что говорил ему умирающий генералиссимус, он ответил одним словом: «Бредил».
Настоящим девизом истинных графоманов мог бы стать эпиграф поэта на титульном листе своих «Лирических стихотворений», вышедших в 1828 г.:
«За труд не требую и не чуждаюсь славы».
Шут
«Увы! несчастному поэту,
— Нахмурясь отвечал Хвостов,
— Давно ни в чем удачи нету.
Скажу тебе без дальних слов:
По мне с парнасского задору
Хоть удавись — так в ту же пору.
Что я хорош, в том клясться рад,
Пишу, пою на всякий лад,
Хвалили гений мой в газетах,
В «Аспазии» боготворят.
А все последний я в поэтах,
Меня бранит и стар и млад,
Читать стихов моих не хочут,
Куда ни сунусь, — всюду свист,
Мне враг последний журналист,
Мальчишки надо мной хохочут…».
(А. С. Пушкин «Тень Фонвизина»)
Однако, ни графский титул, ни рассылка произведений сами по себе не смогли бы вписать имя Хвостова в «вечность», не будь у него знаменитых и талантливых «насмешников».
Фигура Хвостова была излюбленным объектом насмешек в среде прогрессивной молодежи того времени — Пушкина, Вяземского, Крылова и др. Его осыпали эпиграммами, посвящениями, постоянно разыгрывали.
А. Вигель
«Вошло в обыкновение, чтобы все молодые писатели об него оттачивали перо свое, и без эпиграммы на Хвостова как будто нельзя было вступить в литературное сословие».
Хвостов и сам старался не остаться в долгу. Один из анекдотов рассказывает, как граф решил осмеять баснописца Крылова следующей эпиграммой:
«Небритый и нечесаный, взобравшись на диван,
Как будто неотесанный какой-нибудь чурбан,
Лежит, совсем разбросанный, зоил Крылов Иван.
Объелся он? Иль пьян?».
Однако, ответная «месть» Крылова была еще остроумней. Однажды он напросился в гости к графу под предлогом послушать его стихи. Обрадованный Хвостов радушно встретил гостя, накрыв превосходный стол. Крылов изрядно выпил, плотно закусил и… в соответствии с вышеприведенной эпиграммой завалился на диван и сладко захрапел!
Имя Хвостова попало даже в знаменитую Пушкинскую поэму «Медный всадник» — произведение, по сути своей, трагическое:
«…Граф Хвостов,
Поэт, любимый небесами,
Уж пел бессмертными стихами
Несчастье невских берегов».
Дело в том, что Хвостов тоже откликнулся стихами на трагическое наводнение в Петербурге. Вот несколько строк:
«…Свирепствовал Борей,
И сколько в этот день погибло лошадей!…
Под ветлами валялось много крав,
Лежали они ноги кверху вздрав…»[3]
Вообще-то, именно Пушкин и обессмертил в веках образ графа, который часто встречается не только в его произведениях, но и в письмах. Язвительность «солнца русской поэзии», правда, нередко переходила меру элементарного приличия.
Выдержки из писем А. С. Пушкина
Л. С. Пушкину, 1 апреля 1824 г.:
«…Видишь, душа моя, мне на всех вас досадно; требую от тебя одного: напиши мне, как «Фонтан» расходится — или запишусь в графы Хвостовы и сам раскуплю половину издания».П. А. Вяземскому, 28 января 1825 г.:
«Пришлите же мне ваш «Телеграф». Напечатан ли там Хвостов? что за прелесть его послание! достойно лучших его времен. А то он было сделался посредственным, как Василий Львович, Иванчин-Писарев — и проч. Каков Филимонов в своем Инвалидном объявлении. Милый, теперь одни глупости могут еще развлечь и рассмешить меня».К. Ф. Рылееву, вторая половина июня — август 1825 г.:
«…He должно русских писателей судить, как иноземных. Там пишут для денег, а у нас (кроме меня) из тщеславия. Там стихами живут, а у нас граф Хвостов прожился на них. Там есть нечего, так пиши книгу, а у нас есть нечего, служи, да не сочиняй. Милый мой, ты поэт и я поэт, но я сужу более проза ически и чуть ли от этого не прав».П.А. Вяземскому, около 7 ноября 1825 г. Из Михайловского в Москву:
«В глуши, измучась жизнью постной,
Изнемогая животом,
Я не парю — сижу орлом
И болен праздностью поносной.
Бумаги берегу запас,
Натугу вдохновенья чуждый,
Хожу я редко на Парнас,
И только за большою нуждой.
Но твой затейливый навоз
Приятно мне щекотит нос:
Хвостова он напоминает,
Отца зубастых голубей,
И дух мой снова позывает
Ко испражненью прежних дней».П. А. Плетневу, 3 августа 1831 г.:
«Кстати: не умер ли Бестужев-Рюмин? говорят, холера уносит пьяниц. С душевным прискорбием узнал я, что Хвостов жив. Посреди стольких гробов, стольких ранних или бесценных жертв, Хвостов торчит каким-то кукишем похабным. Перечитывал я на днях письма Дельвига; в одном из них пишет он мне о смерти Д. Веневитинова. «Я в тот же день встретил Хвостова, говорит он, и чуть не разругал его: зачем он жив?» — Бедный наш Дельвиг! Хвостов и его пережил. Вспомни мое пророческое слово: Хвостов и меня переживет. Но в таком случае, именем нашей дружбы, заклинаю тебя его зарезать — хоть эпиграммой».
(Тут из Пушкина пророка не получилось: граф Дмитрий Иванович Хвостов умер в возрасте 78 лет 22 октября 1835 года, за два года до роковой дуэли на Черной речке. — С.К.)Н. М. Языкову, 18 ноября 1831 г.:
«Хвостов написал мне послание, где он помолодел и тряхнул стариной. Он говорит:
«Приближася похода к знаку,
Я стал союзник Зодиаку;
Холеры не любя пилюль,
Я пел при старости июль…»и проч. в том же виде. Собираюсь достойно отвечать союзнику Водолея, Рака и Козерога».

П.И.Челищев. «Пушкин и граф Д.И.Хвостов». Начало 1830 г. А где же граф? — спросите вы. Наиболее зоркие обнаружат его маленькую туманную фигурку справа от «солнца русской поэзии».
Завершить тему «Пушкин и Хвостов» хочется очередным анекдотом.Однажды Пушкин получил восторженное письмо от своего почитателя. Почитатель писал о том, какое огромное впечатление производят на него стихи Пушкина, о том, что многие стихи Пушкина он знает наизусть. В конце письма он написал: «Ваши стихи, драгоценнейший Александр Сергеевич, намного, намного лучше сочинений графа Хвостова «. Уж польстил — так польстил!
Жуковский в своей «арзамасской» шутливой речи говорил:
«Потом отверзлись уста мои, и начал я хвалить одного беседного покойника, одного графа, одного скотолюба,[4] Дмитрия, но не Донского, а Кубрского, сего лирического затейника, сего вольного каменщика бессмыслицы, привилегированного фабриканта галиматьи и заслуженного парикмахера фурий».
Разыгрывали графа также бесконечное множество раз. Рассказывали, как Хвостов приехал на дачу к Крылову со своей одой «Певцу соловья», посвященной баснописцу. Узнав, что Хвостов приехал, Крылов с гостями решили не впускать его в залу, пока он не внесет, в качестве члена, «общественные издержки» — 25 рублей. Когда граф стал просить позволения прочесть свою оду, его спросили: «Сколько строф?». «Двадцать», ответил он и начал читать. Только он окончил первую строфу, как ему зааплодировали. Аплодировали долго и громко, так, что несчастный граф никак не мог продолжить. Один из гостей объяснил ему, что когда при чтении аплодируют, то читающий должен, по уставу, купить бутылку шампанского для слушающих. В итоге, чтение двадцати строчек обошлись нашему герою, ни много, ни мало, в 200 или 300 рублей.

Крылов сравнивал себя с лисой из басни, которая выманивает сыр изо рта простодушной, но состоятельной вороны-Хвостова.
Впрочем, насмешки над графом общество старалось не доводить до неприкрытого издевательства. Так, когда Дашков в марте 1812 года при вступлении Хвостова в общество любителей словесности, наук и художеств произнес «похвальную» речь, в которой сравнивал графа с великими поэтами древности, превознося его выше Горация, Расина, Лафонтена и Буало (ирония была настолько грубой и очевидной, что даже наш «закаленный» герой обиделся), поэты возмутились и исключили Дашкова из вышеназванного общества.
Поэт
«Пучкова, исполнять приятелей желанье
Давно ты ведаешь, что я всегда готов;
И с берегов Кубры пишу тебе посланье;
Но что представлю в нём?
Нет мыслей, ни стихов.
Мне, спутнику дождя, с починенной коляской
Мысль к мысли подвести, угладить рифмы тряско:
Там горы, там песок, а там в болоте вязко,
И недосуг ловить замысловатых слов».
(Д. И. Хвостов)
Конечно же, представление о «комичности» стихов Хвостова было несколько преувеличено его современниками. Среди множества творений графа попадались и вполне пристойные. И еще: для того, чтобы понять, почему возник «шутовской ореол» Хвостова, надо иметь в виду, что граф был ярым защитником отживающих традиций классицизма от новаторства (а в то время таким новатором был Пушкин!). Говоря словами Ю. Тынянова, «он расплачивался за державинский XVIII век».
П. А. Вяземский:
«Зимой весну являет лето». Вот календарная загадка! Впрочем, у доброго Хвостова такого рода диковинки были не аномалии, не уклонения, а совершенно нормальные и законные явления.Совестно после Хвостова называть Державина, но и у него встречаешь поразительные недосмотры и недочеты.…».
Недаром Хвостов противопоставлял свои басни («Притчи», как он их сам называл) басням Дмитриева и Крылова. Граф считал, что басня должна вернуться к своему архаическому «эзоповскому» смыслу. Это означало простоту языка, ясность морали, отсутствие поэтических украшений.
А. Измайлов писал в эпиграмме на Хвостовские «Притчи»:
«Хвастон наш фабулист примерный:
Нет в баснях у него искусства, пышных слов,
А сколько простоты! Вот в них-то совершенный
Язык скотов!».
Несмотря на стремление к «простоте», язык «Притч» Хвостова был тяжеловесен и замысловат. При этом в нем нарушались все мыслимые и немыслимые законы природы. Именно эти нелепицы и приводили поэтических коллег в «восхищение». В стихах Хвостова зубастые голубки перегрызают сети, осел лезет на дерево, цепляясь… когтями, «льстец вьется жабою», «змея, в тени дерев (!) пируя, питает скрытно умысл злой», уж становится на колени и т.д.
Несмотря на то, что в басне «Живописец и наземная куча» Хвостов заявлял:
…Я обращаю к вам усердные советы,
Жрецы парнасских дев — поэты.
Облагораживать учитеся предметы!
Везде изящного пред вами образцы;
Не рабственные вы писцы,
Но подражатели разумныя природы;
Покорны вам земля, и небеса, и воды;
Вы призваны греметь народам правду вслух;
Умейте смертного возвысить мысли, дух.
Поэта в лавровом пишите мне венке,
Отнюдь не в колпаке,[5]
сам он был большой любитель с детской непосредственностью смешивать «высокий» и «низкий» жанры.
Из книги Ю. Тынянова «Пушкин»:
«Недавно вышло новое собрание его притч. Василий Львович нарочно купил его. В баснях и притчах граф был наиболее смел. Тотчас устроилась игра: каждый по очереди открывал книгу и, не глядя, указывал пальцем место на странице, которое надлежало прочесть. Начал Блудов, разогнул — открылось:
«Суворов мне родня,
и я стихи плету.»Блудов сказал:
— Полная биография в нескольких словах.
Лучше начала сам Василий Львович не мог бы придумать. Все просияли, и охота за стихотворною дичью началась.
…Сергею Львовичу попалась баснь «Змея и пила». Самое название было смело. Граф любил сопрягать далекие предметы. Сергею Львовичу особенно понравились первые стихи:«Лежала на столе у слесаря пила,
Не ведаю зачем, туда змея пришла.»Он сказал без всякой аффектации фразу, которую недавно слышал, но не вполне понимал:
— В глупости его есть нечто высокое.
…Тургенев попросил у него книгу, открыл, перевернул страницу и прочел:«Мужик представлен на картине;
Благодаря дубине
Он льва огромного терзал.»Листнул наугад и снова прочел:
«Летят собаки,
Пята с пятой.»Попала книга к Шаликову и, как по волшебству, стихи оказались разумными. Тургенев лукаво прищурился и вдруг вздохнул.»
М. Дмитриев:
«Его сочинения замечательны не тем, что они плохи: плохими сочинениями нельзя прославиться… А он в Петербурге и в Москве составил себе имя тем, что в его сочинениях сама природа является иногда навыворот….»
Сам Хвостов оправдывал свои несообразности тем, что поэт, мол, не должен слепо следовать разуму, поэтическое вдохновение должно быть вольным. Он писал:
«Свободный сильный стих родить
Бесплодны разума горнилы».
Или еще:
«Что злые языки на свете ни болтают,
Поэтов на земли велик и славен дар;
Они в себе питаютВысокий дух, небесный жар.
Я разумею здесь Марона и Гомера;
Лишь к ним мое почтение и вера,
А прочих, хоть я сам считаюсь в их толпе,
Не ставлю высоко. Не в рифме, не в стопе
Стихотворения искусство…».
А когда его обвиняли в том, что ворона в его басне «разевает пасть», граф гордо отвечал:
«… Я говорю «И пасть разинула». Пускай учитель натуральной истории скажет, что у вороны рот или клюв. Пасть только употребляется относительно зверей, но я разумею здесь в переносном смысле широкий рот и рисую неспособность к хорошему пению…».
Впоследствии подобные «комизмы» и «несуразицы» станут настоящей находкой и своеобразным стилистическим методом некоторых поэтов. П. Антокольский вспоминал, как его жена, услышав стихи раннего Заболоцкого, воскликнула: «Да это же капитан Лебядкин!», на что Заболоцкий лишь усмехнулся и добродушно сказал: «Я тоже думал об этом. Но то, что я пишу, не пародия, это мое зрение…».
Человек
«…Надеюсь, —может быть, в числе стихов моих
Внушенный музами один найдется стих;
Быть может, знатоки почтут его хвалами,
Украсят гроб певца приятели цветами,
И с чувством оценят не мыслей красоту,
Не обороты слов, но сердца простоту».
(Д. И. Хвостов)
«Последние стихи сего Послания весьма дурно переведены
у г. Сент-Мора. В них сказано, будто бы я по собственному
признанию дурной поэт, но зато добрый человек».
(Примечание Д. И. Хвостова к предыдущему стихотворению)
Насмешки — насмешками, графоманство — графоманством, но человеческие качества Хвостова заслуживают отдельного упоминания. Как вы уже, наверное, догадались из вышесказанного, наш граф был незлоблив и отходчив, что в сочетании с завышенными амбициями о чем-то да говорит. Хвостов вообще был добр, отзывчив, и во всем, что не касалось стихов, чрезвычайно скромен (вспомним, что его любил Суворов, хотя злые языки и приписывали подобную любовь «экстравагантности» великого полководца). Граф уважал науку, помогал митрополиту Евгению в издательстве словаря и, как истинный академик, кропотливо собирал сведения о русских писателях.
Здесь трудно умолчать об одном забавном анекдоте, связанном с Российской Академией.
«А сколько считается теперь всех членов?» — спросил как-то Державин Петра Ивановича Соколова.
«Да около шестидесяти», — отвечал секретарь Академии.
«Неужто нас такое количество? — сказал удивленный Шишков. — Я думал, что гораздо менее».
«Точно так; но из них, как Вашему Превосходительству известно, находится налицо немного: одни в отсутствии, другие избраны только для почета, а некоторые…».
«Не любят грамоты», — подхватил Хвостов.
Графоманство Хвостова (читай, любовь к поэзии) было чисто и бескорыстно. Именно благодаря таким людям и существует та поэтическая среда, в унавоженной почве которой растут поэтические цветы. Постмодернистские игры со словом «графоман» давно уже стерли его первоначальный смысл.
Применительно к графу Хвостову сей термин должен означать лишь бескорыстную (мало того, очень расточительную) любовь к поэзии малоспособного к ней человека. Именно малоспособного, ибо посредственным Хвостова не назовешь — посредственность не могла бы так веселить Пушкина. Как писал в своем «Дневнике» В. К. Кюхельбекер, «в дурном и глупом, когда оно в величайшей степени, есть свой род высокого, sublime de betise, то, что Жуковский называл «чистою радостью», говоря о сочинениях Хвостова».
Но самым точным и замечательным образом отозвался о графоманстве Хвостова великий историк Карамзин в письме к Дмитриеву:
«Я смотрю с умилением на графа Хвостова… на его постоянную любовь к стихотворству… Это редко и потому драгоценно в моих глазах… он действует чем-то разительным на мою душу, чем-то теплым и живым. Увижу, услышу, что граф еще пишет стихи, и говорю себе с приятным чувством: «Вот любовь, достойная таланта! Он заслуживает иметь его, если и не имеет».
Большего добавить трудно.
ПРИМЕЧАНИЯ:
1 — Во многих стихах Хвостов величественно именовал себя «певцом Кубры». См. к примеру:
«Хмельницкий прав. Мы все, в деревне, в городах,
Во сне и наяву здесь плаваем в мечтах;
Воздушные везде все люди замки строят,
Фортуну о себе тогда не беспокоят.
Я сам в углу своем являюся в броне,
Даю Суворову уроки на войне,
Первопрестольные я покоряю грады,
Владею царствами Эллады;
Мой пышный долиман в алмазах, серебре;
На златошвейном я, разнежася, ковре,
Пашей и муфтия не соизволю слушать.
Слуга лишь позовет в гостиную чай кушать —
Как было смолоду, останусь при Кубре».
2 — Стоит сказать, что после смерти Хвостова его произведения, насколько мне известно, отдельным изданием никогда не выходили. Вплоть до 1997 года, когда в московском издательстве «Совпадение» вышли «Избранные сочинения графа Хвостова».
3 — Правда, не менее глупо и надуманно звучат размышления об образе Хвостова в «Медном всаднике» пушкиниста Ю. Борева из работы 1960 г.: «Образ Хвостова — обозначение духовной пошлости николаевского Петербурга. За духовным убожеством этого пиита стоят и Булгарин, и Уваров, и другие гонители Пушкина, представители обыденного распорядка петербургской жизни, распорядка, который погубил Парашу и Евгения, погубил декабристов и, пройдет лишь еще немногим более трех лет, погубит и Пушкина…».
4 — Жуковский называл Хвостова «скотолюбом» за его эпиграф к «Притчам»: «Все звери говорят, а сам молчит поэт».
5 — К этой басне Хвостов сделал примечание: «Последний стих целит на тех поэтов, которые, забыв об изящной природе, все смешивают. Знаменитый лирик наш Г.Р. Державин, побезвкусице одного живописца, написан и представлен был на выставке Академии Художеств в колпаке. Искусство изображает натуру, но только изящную. Живописец! представляй мне Суворова во всеоружии на Альпах, а Державина на Геликоне в лавровом венке».
Автор: Сергей Курий
Впервые опубликовано в журнале «Твоё Время» №2-3 2003 (ноябрь)